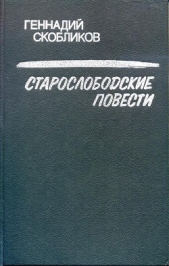Степкино детство

Степкино детство читать книгу онлайн
В 1935–1936 годах, уже в возрасте 55 лет, Исай Исаевич Мильчик начал писать свою первую повесть для детей. До этого И. И. Мильчик писал публицистические книги и статьи для взрослых. Основной его труд — автобиография под названием «За Николаевским шлагбаумом». «Степкино детство» — это первая часть книги, задуманной И. И. Мильчиком. В основу ее в какой-то степени положен автобиографический материал.
Автор хорошо знал эпоху 90-х годов прошлого столетия, хорошо знал обстановку и быт захолустной слободки на Волге, сам был свидетелем холерного бунта, испытал тяжелую жизнь рабочего подростка, вынужденного за гроши много часов подряд, до полного истощения физических и моральных сил, крутить колесо в механической мастерской, узнал, что такое каторжная тюрьма и сибирская ссылка. Обо всем этом он и хотел рассказать в своей повести. Во время Великой Октябрьской революции И. И. Мильчик — член Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда от Выборгской стороны. И. И. Мильчик прошел большой трудовой путь от токаря до заместителя директора одного из ленинградских машиностроительных заводов. В 1937 году в номере 1 журнала «Костер» были опубликованы главы из повести под названием «На речке Шайтанке». Над этими главами автор работал с С. Я. Маршаком и Л. К. Чуковской. Автору не удалось закончить книгу: в феврале 1938 года жизнь И. И. Мильчика трагически оборвалась. Рукопись в виде законченных и незаконченных глав, набросков, черновиков сохранилась у жены и сына И. И. Мильчика. По просьбе издательства писательница А. И. Любарская тщательно изучила все эти материалы и подготовила рукопись к изданию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По скрипучим половицам каланчи кружит босой пожарный в тиковых подштанниках и в медной каске.
Пожарный первый со своей вышки увидел кучку людей. Он остановился, свесил через перильца голову в медной каске и крикнул вниз:
— Эй, Ларивон Иваныч, ай воров-карманщиков приволок? Тащи их, тащи, в рот им лягушки! Такие вот вьюноши летось у меня шлею карабчили [11]. Слышь, Иваныч, всыпь им там, чтоб до новых веников помнили!
Ларивошка, не поднимая головы на пожарного, забормотал вслух:
— К чему приставлен — за тем и смотри. Бочки у вас, у чертей, рассохлись, кишки в дырьях. Дочиста сгоришь с вами, с чертями!
На ступеньках участка Ларивошка приостановился, выстроил Васену, Бабая, Степку, Рахимку в ряд. Скомандовал: «Ма-арш!» — и открыл узкую, скрипучую дверь.
И яркий летний день сразу пропал, остался где-то за дверью. Как сквозь темное стекло, Степка видел перед собою длинный узкий коридор. По обеим сторонам коридора под низким сводчатым потолком чернели помеченные номерами впадины грязных, тяжелых дверей. Из проделанных в дверях окошечек с решетками вырывался в коридор шум голосов.
Растрепанная баба с багровыми синяками вокруг глаз, вдавив в решетку нос и губы, хрипела:
— Эй, воробышки, дай двугряш! Эй, карманчики-чики-чики, дай курнуть! — и, не дождавшись ответа, плевала в мальчиков мелкими плевками, цыкая сквозь сжатые зубы.
Молодой татарин с кудрявым завитком, выпущенным из-под тюбетейки, тыкал кулаком в решетку и, быстро-быстро перебирая губами, что-то бормотал по-татарски.
— Это вор, — шепнул Васене бледный Бабай, — наша алаша прошлым годом воровал. Опять алаша обещается воровать. Ай, яман, яман [12].
От крика, от гогота, от хрипа растрепанной бабы Степка съежился весь и, цепляясь за мать, спрашивал ее:
— Мама, мам, и нас гуда, за решетку? С ворами?
Васена, согнувшаяся, присмиревшая, чуть слышно отвечала ему:
— Молчи, сынок, молчи… Наделали мы с тобой делов. Сами в беду влезли. Что-то теперь будет с нами? Что будет?
Один за другим шли они по темному коридору. Только какая-то полоска светилась в глубине, пересекая сумерки.
— Стой! — крикнул Ларивошка, и голос его раскатился под сводами.
Коридор кончился глухой стеной. Светившаяся в темноте полоска оказалась узкой щелью в стене, пробитой высоко под потолком. Сквозь щель пробивались с улицы косые лучи пыльного солнца, чуть освещая конец коридора.
За железным столом, привинченным к глухой стене, сидел старик и, низко пригнув сухую шею, хлебал деревянной ложкой из медного солдатского котелка щи. На груди старика покачивалась круглая медаль; рядом с котелком лежала большая связка длинных отполированных ключей.
«Вот этими-то ключами все люди в тюгулевках и заперты», — прижимаясь к матери, подумал Степка.
— Ну-кося, Минеич, прими-ка новеньких! — крикнул старику Ларивошка.
Минеич, не отрываясь от котелка, сердито покосился на Ларивошку.
— Прими! А куда? За пазуху к себе, что ли?
Он положил ложку на стол и вытянул из-за обшлага какую-то бумагу.
— Видал рапортичку? Воров мужского пола — сорок, воровок женского пола — двадцать две, пьяных — осьмнадцать, в этап для выяснения личности — пятеро, смертельные побои с вырыванием волос на голове — трое, смутьян — один. Вона… на ящике сидит, — ткнул Минеич ложкой в темный угол коридора. — Пустой каморы нет, а с прочими смутьянами не велено сажать. Отдельную камору им подавай, вроде политиков…
Ларивошка отвел рукой рапортичку Минеича.
— Это нам не касается. Привели — и должон принять. Ты — ключник, ты отвечаешь.
И, повернувшись к Чувылкину, он распорядился:
— Доложишь ужо, Чувылка, его благородию. А сейчас — кругом арш!
Городовые повернули правое плечо вперед и зацокали по коридору коваными сапогами.
Степка не отрывая глаз смотрел в тот угол, куда Минеич ткнул ложкой. Какой он такой — смутьян?
На груде узлов сидел маленький человек в холщовой просмоленной рубахе, без пояса, в длинных сапогах-бахилах и все прикладывал к своей темноволосой голове красную тряпку. Приложит тряпку к голове и посмотрит на свет, приложит — и посмотрит.
По его высоким сапогам, завернутым выше колена, и просмоленной рубахе Степка сразу догадался: «Конопатчик это, они в слободке живут и на Ново-Пристанской».
Конопатчик и не взглянул на новичков, которые не зная, куда себя девать, столпились около стола. Он все прикладывал к волосам тряпку и бормотал какую-то невнятицу:
— Кровь. Кровищи-то сколько. Ладно, анафемы. Повремените. Скоро уже, скоро…
И вдруг он перестал бормотать, поднял кверху большой, узловатый кулак с зажатой в нем тряпкой и завопил на весь коридор:
— Эй ты, мздоиматель и грабитель, когда подохнешь?
«…охнешь!» — отдалось под сводами коридора.

Еще не замолкло эхо, а из какой-то камеры раскатилось по всему коридору:
— Эй, фараоново отродье, теши доски, готовь гроб…
Но ключник как ни в чем не бывало взял со стола ложку и опять принялся за свою похлебку. Он ел не торопясь, со старческой медлительностью поднимая ложку ко рту и не обращая внимания на стоящих перед ним людей.
Выхлебав щи до донышка, ключник облизал ложку, потянул к себе связку ключей, встал и закрестился на правый угол. Там еле виднелась облупленная икона с распятым длинноногим Христом.
— Благослови, бог наш, милуяй и питаяй нас от юности нашей, даяй пищу всякой плоти, — отчеканивая по-солдатски, точно рапорт отдавал, молился старик, крепко сжав в одной руке ключи, а другой размашисто крестясь.
затянул вдруг в своем углу конопатчик. И, так же вдруг оборвав песню, сказал как ни в чем не бывало Минеичу:
— Это я назло тебе, мздоиматель, — не суйся к богу!
Ключник задумчиво задержал на лбу три пальца и, скосив злые глаза на конопатчика, зашипел, будто где-то на каленое железо плюнули:
— Мало тебя вчера лупцевали? Ужо добавку получишь.
И опять зарапортовал, кротко глядя в правый угол:
— Господу нашему Иисусу Христу поклоняемся со святым духом во веки аминь..
Сзади снова раздался топот подкованных сапог. С того конца коридора, от дверей, шел городовой, но не Ларивошка и не Чувылкин, а какой-то другой, похожий на пристанского грузчика, остриженный в кружало и в красной рубахе, заправленной в форменные штаны с кантиками. Еще не доходя до железного стола, городовой позвал ключника:
— Эй, Минеич! Где у тебя воры со Вшивки? В пятой, что ли? Открой.
— А посадить кого? — спросил ключник, докрещиваясь мелкими крестиками.
— Тех, что Ларивон Иваныч привел.
У Степки заколотилось сердце. Он посмотрел на мать, на Бабая, на Рахимку. Васена стояла сцепив на груди пальцы и низко-низко опустив голову. Бабай, согнувшись, держался трясущейся рукой за край стола, а Рахимка — тот был белый как бумага, совсем потерянный. «Пропали, — подумал Степка, переводя глаза с Рахимки на мать, с матери на Бабая, — пропали, не уйти нам отсюда».
— А этого идола куда? — спросил ключник у городового и кивнул в угол на конопатчика.
— С этим еще подождать надо, мы еще с ним покалякаем.
— Шебаршит он больно много, — проворчал ключник.
Городовой повернулся к узлам:
— Эй, голубь сизокрылый, где ты там?
Конопатчик не сразу отозвался.
— Это ты шебаршишь тут? — спросил городовой, шагнув в угол.
— Я. А это ты меня давеча раскровянил?
— Не отказываюсь, я.
— Ладно. Скоро все наружу выйдет. За все рассчитаемся.
— Это кто же с кем же?
— Да хоть я с тобой.
Городовой тряхнул волосами, шагнул в угол и изо всей силы огрел конопатчика по уху. Так огрел, что даже под сводами отдалось.