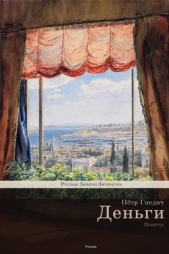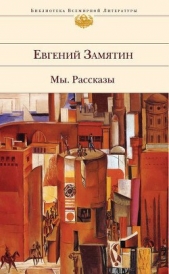Грустная Элизабет

Грустная Элизабет читать книгу онлайн
Повести и рассказы Льва Кузьмина адресованы читателям младшего школьного возраста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И всё было бы тут хорошо, если бы однажды вдруг Вася не взял, не удержал страшнейший удар-буллит. Николушка ни разу таких ударов не брал, а он — взял!
Он и сейчас помнит, как ахнули все, когда шайба оказалась у него в руке, в ловушке, — и вот с этой-то минуты Вася Иванов крепко-накрепко зауважал сам себя. Сначала зауважал молчком, тишком, а потом учудил номер и при всех.
Когда к ним на ледовую встречу приехала знаменитая команда тридцать третьей городской школы, когда Васины боевые соратники и сам он выходили, грохоча коньками, из раздевалки, когда Николушка Копейкин провожал всех добрыми пожеланиями и немножко завистливым взглядом, потому что был в этот вечер запасным, — то Вася поравнялся с Николушкой и прищёлкнул перед его носом пальцами:
— Вот так-то! Нечего завидовать! Всё верно. Сегодня и безо всякого черёда должен был бы играть я. Сегодня сражаются хоккеисты — первейший сорт!
Николушка мигом вскинулся, но тут же и грянул бас тренера:
— Отставить! Это кто это первый сорт? Это ты, Иванов, первый сорт? Отставить и твой выход. Садишься в запас, на лёд идёт вратарь Копейкин.
А ещё он сказал, что за такое зазнайство и хвастовство его, Иванова, надо бы отправить даже не на запасную скамейку, а домой; но поскольку грех с Васей вышел впервые, то пускай Вася пока посидит вот тут, в раздевалочке у окошечка, да и подумает, какой он сорт-фрукт на самом деле — наилучший или так себе, с пятнышком…
И ошарашенный, расстроенный Вася остался в раздевалке один. Перешагивая через вороха ребячьих обувок, не снимая коньков, он проковылял к длинной под окошком скамье и, почти ничего не видя от слёз, уткнулся в холодное стекло.
О том, какой он теперь «сорт-фрукт», Вася понял сразу. На душе у Васи сделалось так, как будто он только что шёл на какой-то удивительно весёлый праздник, шёл вместе с друзьями, и вдруг все ушагали вперёд, а перед ним с треском захлопнулась дверь.
Она захлопнулась, и остался для него, для Васи, лишь вот этот квадратный проёмчик с надбитым стеклом: смотреть смотри, а проходить дальше и не пробуй! Там, на празднике, и без тебя, Васёк, хорошо. Там, на празднике, и без тебя, Васёк, обойдутся…
Но и в окошко почти ничего нельзя было разглядеть. Выходило оно чуть в сторону от хоккейной площадки на белые кусты, на утоптанную дорожку, на белеющий в сумерках школьный сад, и Вася не столько видел, сколько лишь слышал, что там, на площадке, зачиналось теперь.
А там, как всегда, орали, визжали, галдели, хлопали в ладоши ребятишки. Там заливался судейский свисток, хлестали по сосновым бортам крепкие удары шайбы, звенели на виражах коньки. Оттуда, как всегда, бил на все четыре стороны, достигая и Васиного окошка, радостный электрический свет, — и только одно там было не как всегда.
Всё это ликующее, всё это светло-шумное празднество проходило теперь без Васи Иванова. И от этого Васе было ещё нестерпимей, ещё тошней.
Он так уж и думал, что на веки вечные одиноким и останется, но тренер был хотя и суров, да справедлив, наказал Васю на одну лишь тогдашнюю игру; простил тогда Васю и Николушка. Тем более что в матче-то с тридцать третьей школой Николушка сыграл превосходно.
А вот Вася с той поры и хвастаться зарёкся, и тренироваться стал ещё старательней, и вот из-за этого старания ни разу, как приехал жить в город, в зоологическом парке и не побывал.
3
Но теперь в зоопарк Васю вела, можно сказать, сама судьба.
Судьбой этой был толстенький, прыткий, пыхтящий на ходу, как паровоз, Чашкин. Перебежав ещё один неведомый ни Васе, ни Петру Петровичу сугробный переулок, пронырнув ещё один сумрачный двор, он вдруг выскочил сам, а за ним и его попутчики, на весеннюю улицу. Обегая прохожих, повернули за угол, и вот — ворота зоопарка, фанерная рядом будочка.
Из будочки выглянула рыжая контролёрша в сиреневой фетровой шляпке:
— Прошу-у билетики…
— Это со мной! — бросил ей на бегу Чашкин, опять махнул Петру Петровичу и Васе, чтобы не задерживались, и запетлял теперь в толпе меж длинных вольер, построенных тут в солнечном затишке под огромными липами.
На самых макушках лип, под самой синью неба в тонком прутье возились, горланили, делили меж собой прошлогодние гнёзда вольные грачи. А у вольер гомонила тоже, но чуть поспокойнее, гуляющая публика. Больше всех тут было девочек и мальчиков. И больше всего их толпилось у бассейна, возле байкальской нерпы Нюрки.
Не могли ни в какое сравнение с нерпой Нюркой идти ни белки, которые, задрав пушистые хвосты, лихо накручивали деревянные меленки-колёса; ни поразительно жирный, с полосатой и плутоватой мордой барсук; ни два развесёлых, кувыркающихся через голову тибетских медвежонка.
Вася даже про лошадку на миг забыл и сам прилип к парапету бассейна, уставился на Нюрку.
А она там — стремительная, вёрткая, черно-блестящая — то уходила в прозрачной воде к самому дну, то, плавно и красиво изогнувшись, абсолютно бесшумно, без единого всплеска выставляла к зрителям из воды странно-синеглазую усатую голову.
И тогда кто-нибудь из ребят с бетонной, не очень высокой стенки кричал:
— Нюра, пас!
И швырял заранее приготовленный оранжевый целлулоидный мячик.
Нюрка почти на лету ловила его крепким носом, и — плюх! банг! — упругий мячик взвивался и вот уже снова лежал у самых ребячьих ног.
— Пас! — кричали снова ребятишки и снова швыряли Нюрке мячики.
Банг! Банг! — опять взлетали они, падали на парапет, ребятишки хохотали, довольная Нюрка повёртывалась кверху гладеньким брюхом, сама себе, как в ладоши, хлопала мокрыми ластами.
— Вот так провора! — захлопал было и Вася, да вдруг почувствовал, что остался в толпе один, что прыткий Чашкин и быстроходный Пётр Петрович ушагали далеко вперёд, и припустил за ними следом.
Настиг он их возле нешироких, с прочною сетчатою оградой загонов.
В одном загоне Вася тут же увидел горбоносого, надменного верблюда, который что-то медленно жевал и который в свою очередь глянул на Васю с высоты своего верблюжьего роста так по-барски, с таким пренебрежением, что Вася не выдержал, сказал ему ехидненько:
— Хо-хо!
Сказал скороговоркой и в общем-то, конечно, не вслух, а про себя, так, чтобы верблюд не расслышал.
Тем более что рядом с верблюдом обитало ужасное страшилище. Сквозь железную ограду таращился на Васю лесной бычище — зубр. Он заслонил крепколобой башкой своей чуть ли не весь крепко-накрепко зарешеченный просвет меж бетонными столбами в загородке, и казалось, стоит ему слегка приналечь, и вся ограда так с треском на Васю и рухнет.
Но это только казалось. Бык, видимо, отлично знал, давно проверил, что бетонные столбы куда прочней его лба, и стоял, не шевелился. Он лишь разок совершенно мирно, совершенно по-коровьи фукнул широченными влажными ноздрями и ловко их прочистил одну за другой шершавым толстым языком.
А вот рядом с ним в уютном, симпатичном загончике не было никого.
Там только в самой глубине, у призакрытой двери жёлтого хлевушка, на согретой солнцем земле копошились, выискивали что-то в соломенной трухе и нежно гуркали залётные голуби-сизари.
На прутьях ограды висела табличка с надписью:
А чуть пониже, помельче:
Пётр Петрович быстро взглянул на эту надпись:
— Гляди-ка… И верно иностранка. Но где же она сама, ваша грустная Элизабет?
— В том-то и дело… — пропыхтел, отдуваясь, Чашкин и утёр взмокший лоб подкладкой картузика. — В том-то и дело: не ест, не пьёт, даже на прогулку в загончик свой не выходит… Пожалуйте, доктор, сюда.
И вот они все трое оказались на другой, на закрытой для посетителей стороне зоопарка, и Васе почудилось на какое-то мгновение, что они снова в деревне.
По всему тесному задворью меж чёрных бревенчатых служб плыл, мешался с талым запахом сугробов тонкий, напоминающий о деревенском лете, о лугах запах сена. Голуби и воробьи, поднимая шумный ветер крыльями, кидались тут прямо под ноги. Они хватали, поспешно подбирали кем-то рассыпанный у сарая овёс; а кто-то где-то — кажется, за оконцами хлевов — по-гусиному гоготал, по-телячьи взмыкивал и даже, как Васе показалось, кукарекнул.