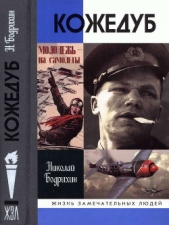Трижды герой

Трижды герой читать книгу онлайн
Документальная повесть о прославленном военном летчике трижды Герое Советского Союза Иване Никитовиче Кожедубе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кожедуб вспомнил: возле этого ангара погиб его любимый командир, майор Солдатенко, незабываемый «батя». Пересилив себя, он выдавил первые приветственные слова, а потом неожиданно для себя рассказал, как им, новичкам, говорили, что хорошо бы попасть к Солдатенко, замечательному командиру, потому что этот человек с обожженным лицом, покрытым белыми рубцами и шрамами, — великолепный летчик и опытный командир, сражавшийся за свободу республиканской Испании, и как они радовались, попав к нему, и сколько знаний, опыта и души он отдал им. Речь его была сбивчивой и страстной. Летчики слушали его, затаив дыхание, и было видно, как у самых юных из них проступили на глазах слезы.
Потом Кожедуб сошел с трибуны.
— Товарищ гвардии майор! Разрешите обратиться!— невысокий, но широкоплечий курсант, со скуластым открытым лицом и выбившейся из-под пилотки светлой, выгоревшей прядью, чем-то очень похожий на него самого, вмешался в разговор Кожедуба с инструктором.
Кожедуб кивнул.
— Разрешите показать вам одну очень интересную вещь.
— Какую же это?
— А вот идемте со мной. Это на минуточку. Вы будете очень рады, товарищ майор, вот увидите.
Курсант повел Кожедуба на спортивную площадку. За ними гурьбой повалили остальные. Гостя подвели к турнику, возле которого лежала двухпудовая гиря.
— Узнаете, товарищ гвардии майор? Это ваша гиря. Мы привезли ее из эвакуации и хранили специально до вашего приезда. Говорят, вы могли ее выжать шестнадцать раз. Правда это?
Кожедуб озорно огляделся вокруг и стал расстегивать китель. Курсанты увидели широченные плечи и играющие под розовато-золотистой кожей тугие мускулы.
— А ну, хлопцы! Посторонись!
— Раз! Два! Три!.. Десять! Двенадцать!.. Шестнадцать! Семнадцать!.. Двадцать!
Кожедуб осторожно поставил гирю на траву. Все, кто был на площадке, дружно зааплодировали.
— А ну, кто хочет потягаться? — спросил Кожедуб, весело обводя курсантов глазами.
— Мы в другой раз!—сокрушенно вздохнул курсант со светлой прядью и скуластым лицом. — Все равно за вами пока не угнаться.
— Ну в другой, так в другой, — добродушно согласился Кожедуб.
Целый день он провел с инструкторами, а они все никак не могли наговориться. Наутро он снова сел в самолет и полетел в Ображеевку.
Самолет летел низко. Скоро показались знакомые очертания пологих холмов и перелесков, показались крохотные хатки Ображеевки.
А вот и Шостка. Неподалеку должен быть техникум. Где же он? Где их студенческое общежитие? Их взорвал отступавший враг. Остались одни пустые коробки зданий.
Шесть лет прошло с той поры, когда Кожедуб впервые поднялся в воздух. Ему тогда было девятнадцать. Шесть лет — это пустяки, как думает, должно быть, седой и уже сутулящийся, но еще крепкий директор техникума, пришедший вместе с юными учениками встречать своего бывшего воспитанника и озорника, а теперь прославленного летчика Ваню Кожедуба. Может быть, это и пустяки, но эти шесть лет стоят целого столетия. Так говорил когда-то командир Солдатенко, а уж он-то знал, что говорил.
Знакомой дорогой идет машина в Ображеевку. Вот и первые хаты, а за ними—сельсовет и подле него—толпа народу. К Кожедубу подбегает Мотя, сестренка, целует его, плачет и смеется. За ней теснится ватага племянников и племянниц.
— Да це Микиты Кожедуба хлопец! — кричит какой-то дед. — А ну, сынок, иди, почеломкаемся! Ишь ты, какой богатырь, и как тебя только иропланы твои носят!
Кожедуба снова тащат к трибуне. Ох, уж эти трибуны! Дед слушает его сосредоточенно, приложив к уху ладонь, изредка цыкая на бойких ребятишек; как завороженная стоит его сестра, слезы катятся у нее по щекам, она не утирает их, а дети ее и брата, которых он и не помнит, тоже затихли, таращат на него глаза и только иногда подталкивают друг друга. А вон улыбается какой-то моряк с медалями во всю грудь. Да это Гриша Вареник, однокашник! А рядом, кто же рядом? Ну, конечно, Ивась, маленький Ивась, за которого он всегда заступался в классе. Теперь Ивась, говорят, колхозный счетовод.
Внезапно в толпе происходит какое-то движение. Сквозь толпу пробиваются ребятишки в белых рубашках и красных галстуках, а за ними неспешно идет седая женщина с мягкой и радостной улыбкой.
Кожедуб, как мальчишка, соскакивает с трибуны и бежит ей навстречу, обнимает ее, целует и приникает щекой к темному шерстяному платку, накинутому на ее плечи. Она ласково отталкивает его и говорит строго:
— Нельзя, Ваня, так обращаться со своей учительницей. Еще задушишь ее в своих невероятных объятиях. А кто будет хлопцев да девчат учить уму-разуму?
— А что я сделал, Нина Васильевна, — протяжноноюще, как говорят провинившиеся школьники, произносит Кожедуб. — Я больше не буду. Простите меня, — и они оба хохочут, и ребятишки в красных галстуках хохочут тоже.
— А помнишь, Ваня, как был мороз и ты только один и пришел в школу и чуть не отморозил уши?
— Помню, Нина Васильевна, и мороз помню, и книжку, которую вы мне тогда подарили, тоже помню...
Поздно ночью, когда все село угомонилось наконец, и только девчата не спят и поют где-то далеко, наверное, у самой реки, знакомые сызмальства песни, Кожедуб лежит с открытыми глазами на постели, вдыхая запах родного дома, слушая и не слыша, как поскрипывает неугомонный сверчок, посапывают уставшие от необыкновенных впечатлений ребятишки и что-то размеренно каплет в сенцах, — и вспоминает, вспоминает...

ДЕТСТВО

В лугах, за деревней, уже совсем темно. Над недальними болотами висят дрожащие лягушечьи хоры, с реки тянет сыростью.
Луна уже поднялась высоко, стала маленькой серебряной монетой. Мимо нее проплывают полупрозрачные облака, легко и стремительно отрывающиеся от черной громады застывшего леса. Одна за другой от небосвода отделяются голубые звезды и, резко прочерчивая небо, падают далеко за лесом.
«Хоть бы одна упала рядом, потрогать бы ее», — думает Ваня. Вдвоем с Гришей Вареником они медленно едут на лошадях к лесу. Ваня на старой кобыле Машке, а Гриша — на крепком и вздорном коньке со странным прозвищем Богданыч.
С самой весны Ваня мечтал о поездке в ночное. Отец строг и неразговорчив, и не угадаешь иногда, как он отнесется к какой-нибудь твоей затее. Он широкоплеч, коренаст и часто подолгу хмуро и задумчиво глядит мимо всех, куда-то вдаль. Он любит читать запоем, беззвучно шевеля губами, самозабвенно, как читают только те, кто выучился грамоте уже взрослым.
Мама — совсем другая. Она худа, измождена, вечно в движении, в непрестанных хлопотах. К вечеру она валится с ног от стряпни, стирки, мытья полов, она ложится, почти падает на постель и тихо стонет, жалуясь на боль в руках и ногах, на колотье в боку и ломоту в пояснице. Отец стоит подле нее и тяжело вздыхает.
Жизнь в доме невеселая. Отец и мать уже надорвались, молодость и сила их прошла, а ртов много — четверо сыновей да дочь. Чему ж тут удивляться, если отец хмур и неразговорчив.
Для того чтобы отец отпустил в ночное, нужно справиться со старой кобылой Машкой.
Машка — кобыла глупая и норовистая. Уже который день Ваня тайком от всех обхаживает ее, стараясь с ней подружиться, но все без толку. Машка лягается, храпит, косит недобрым взглядом громадных слезящихся глаз. Вчера Ваня подманил ее краюхой, вцепился в гриву, подтянулся и, рискуя вот-вот свалиться, вскарабкался ей на шею. Машка рванулась, пошла с места размашистой, крупной рысью, Ваня не удержался и шлепнулся на землю. Кобыла оглянулась, весело помотала головой и спокойно отправилась домой.
По вечерам, когда народ уже давно возвратился с поля и поужинал и девчата, принарядившись, выходят из хат и идут широкой улицей на призывные звуки гармони, а в тишине, отраженные от речной глади, отчетливо звучат их грустные песни, — тогда мальчишки постарше выводят из дворов лошадей, садятся на них и с веселым гиком, размахивая свистящими лозинами, гонят их к лесу, в ночное...