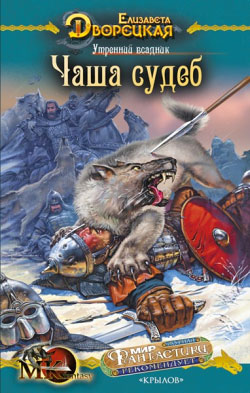Утренний иней

Утренний иней читать книгу онлайн
Не может и быть не должно «бесконечно далеким» для нынешних подростков прошлое их родителей, ибо живет оно не только в их памяти, — оно властно вторгается в их судьбы, напоминая о себе не только невозвратимыми утратами, но и — порою — не отомщенными обидами. И как бы ни менялась к лучшему наша жизнь, как бы тщательно ни зарубцовывало время старые раны, нанесенные давно отгремевшей войной, — не в его власти заглушить боль от этих ран, никаким ветрам не дано развеять эту боль из души народной, пока жив сам народ, хранящий в себе память изболевшегося сердца. Этой вот мыслью и сцементированы воедино главы «Утреннего инея», одни из которых о детстве нынешнем, а другие доносят до нас живые голоса из «убитого детства», из детства тех, кто уже давным-давно твердо вошел в мир взрослых.
Роман «Утренний иней» завершает авторскую серию для подростков «Здравствуй, жизнь!».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во время налетов ей больше всего хотелось забраться на крышу, чтобы узнать, что же случится с зенитным снарядом, который не попадет в цель, — взорвется в воздухе сам собой или уже потом на земле грохнет.
— Тебе на голову шлепнется! — сердился дед Васильев.
А как только наступало затишье, Томка первая выскакивала из убежища.
— Кому в туалет? Айда!
Иногда, неведомо каким образом, Томке удавалось утянуть Фалю обратно в детство. Обычно это были те дни, когда они вместе ходили за водой и вместе поливали Фалину грядку с огурцами. Последние жалкие огуречные уродцы-закорючки были съедены еще две недели назад, но Томка убедила Фалю, что грядку все равно надо поливать, — а вдруг огурцы снова зацветут и дадут еще один урожай закорючек. И они поливали засыхающую грядку с желтыми листьями на увядающих плетях и потихоньку обрывали длинные и жесткие огуречные усики, чтобы с наслаждением сжевать их, все-таки они немного пахли огурцами. В такие дни неугомонная, почти счастливая Томка словно окружала Фалю теплой светлой дымкой безмятежного счастья. Может быть, потому, что расспрашивала у Фали, как выглядел их двор до того, как вырубили нем деревья и построили убежище, как выглядела их улиц до того, как ее превратили в широкую дорогу для пехоты: танков. И Фале поневоле приходилось вспоминать то счастливое довоенное время, когда она еще не была старшей в семье когда двор их был безмятежно солнечным и уютным, а улица, красивым зеленым ущельем спускающаяся к реке, тоже была солнечной и уютной, — то время, когда приезжал Валентин и они ходили в театр.
— А давай заберемся куда-нибудь! — предлагала ей вдруг Томка, когда они заканчивали поливать грядку и когда все усики с грядки были съедены. — Куда-нибудь высоко-высоко!
И Фаля, к своему удивлению, соглашалась. И они забирались или на крышу сарая, или на чердак дома, где в каждом углу были расставлены ведра с песком и лопаты — на случай, если упадет на крышу дома зажигательная бомба.
Сидя на крыше сарая, Томка болтала ногами и горланила невероятные песни:
С крыши старого сарая был хорошо виден соседний двор — враждующая с Фалиным двором сторона. Мальчишки с этого двора каждое лето устраивали набеги на одну единственную вишню, что росла когда-то у Фалиных окон. Старая чахлая вишня давно уже не цвела, но зато на стволе ее от жаркого солнца выступала липкая ароматная смола, ее приятно было жевать. К тому же враждебная сторона считала почему-то половину крыши старого сарая своей собственностью и предпочитала именно с этой крыши запускать бумажных змеев. Конечно, силы Фалиного двора были слабее, но все равно они оборонялись достойно. В особенности когда приезжал Валентин. Он, которого все взрослые считали таким вежливым, таким тихим, таким воспитанным, умел драться по-настоящему, как и другие, самые драчливые мальчишки. Взрослые, наверно, знали его плохо.
Удивительная все-таки это была способность у эвакуированной Томки — возвращать людей в счастливое прошлое. Томка почти никогда не унывала. Томка хотела убежать на фронт и даже, оставив на время свои дикие тропические мелодии, разучивала боевую песню: «Ах, если бы латы и шлем мне достать! Ах, если бы латы и шлём мне достать!»
— Не шлём, а шлем! — сердито поправляла ее Фаля, сердясь вовсе не за этот дурацкий «шлём», а за то, что она разучивает песню немецкого композитора. Пусть и великого, но все равно немецкого. — Никто так не говорит — «шлём»! Неправильно!
— Ага! — соглашалась Томка. — Я учту.
А на следующий день начиналось снова: «Ах, если бы латы и шлём мне достать…»
Еще в среду, девятнадцатого, Томка сбегала в школу, притащила новые учебники и шесть тоненьких тетрадок в косую линейку, для себя и для Фали, и сообщила, что заниматься они будут в самую последнюю, четвертую смену и что уроки идут сокращенные, иначе на всех школы не хватит. Но самой плохой новостью, принесенной Томкой из школы, было то, что учиться, оказывается, они теперь будут уже не в том здании, куда Фалину школу перевели еще осенью, а в совсем дальней, двухэтажной, бывшей четырехлетке. А она почти в другом районе города, и идти туда надо не меньше часа, и транспорт никакой туда не ходит.
— Ничего! Ничего! — бодро утешила ее Томка. — Зато учиться будем недолго, да еще в самом конце дня. Значит» весь день в нашем распоряжении, лишь бы немцы не прилетали.
Немцы и в самом деле почему-то пока не прилетали. Не прилетели они ни в воскресенье, двадцать третьего, ни в понедельник, двадцать четвертого. И потом целая неделя до самого первого сентября прошла почти спокойно.
Правда, ходили слухи, что они все-таки прилетают, но что наши летчики перехватывают их на подступах к городу и сбивают.
Один такой сбитый «юнкерс» выставили на той самой площади первомайских демонстраций, которую они когда-то пересекали с Валентином, направляясь в театр под ослепительным небом, и Фаля не пошла смотреть на этот «юнкерс», осквернивший площадь.
А Томка пошла. И примчалась домой взволнованная и, ликуя, сообщила: оказывается, «юнкерс» сбила девушка-летчица. Все об этом только и говорят. «Ах, если бы латы и шлём мне достать! Ах, если бы латы и шлём мне достать!»
От радости Томка даже приплясывала, и ноги ее выписывали радужные, разноцветные пируэты. На ногах у нее теперь была обувка, хоть и не фронтовая, но все-таки обувка — тапочки, которые ей сшила мать к школе из старой фетровой шляпы, подаренной Томке соседкой тетей Паней. Шляпа была сшита из разноцветных полосок фетра, и тапочки получились полосатые, радужные, для побега на фронт никак не подходящие. Но все-таки тапочки!
А Фаля в школу пошла в новых ботинках — купили по ордеру, выданному матери на работе. И угольной пыли матери на работе тоже выдали столько, что даже для Томкиной семьи отсыпали три ведра. Вообще весь двор, жалея эвакуированное Томкино семейство, все время дарил Томке и ее братишке что-нибудь полезное. Кто шляпу для тапочек, кто старую диванную подушку, кто просто старую тряпку. Тетя Паня в придачу к шляпе подарила выцветшую цветастую скатерть, из которой тут же сшили для Томки пальто — зеленое, с цветами.
Дед Васильев отдавал им второе блюдо своего столовского обеда. Суп же он приносил Тобику.
Он приносил мисочку пшенного супа и, пряча от Фали глаза, говорил грубовато и смущенно:
— Вот, возьмите для Тобика.
И Фаля, которая бережно, боясь расплескать хоть каплю, принимала от него миску, прекрасно понимала, что суп он приносит не Тобику. И что неловко и стыдно ему оттого, что знает — принес он им милостыню. Им, которых когда-то во дворе считали самыми интеллигентными, самыми образованными — отец у них работал художником на фабрике. Все-таки художник! А теперь — милостыню…
Фаля делила суп на двоих — между Виталькой и Галкой. А Тобик умирал от голода. У него уже давно не хватало сил ни лаять, ни скулить. Он лежал в чулане на своей старой вытертой подстилке и не жаловался, только смотрел, не поднимая головы, такими глазами, что Фаля не выдерживала и закрывала дверь чулана на задвижку.
Зиму они кое-как продержались. Но ранней весной кончилась картошка, которую они запасли с осени, кончились вещи, которые можно было продать, кроме того ковра, который мать продавать не хотела, и остался только карточный паек, а его было так мало… Для Тобика они варили черный суп из сухой картофельной шелухи, которую на всякий случай сберегли зимой, да еще Фаля тайком от матери и от маленьких отщипывала от своего дневного пайка крошечный кусочек хлеба. Но для такого живого, жизнерадостного раньше щенка этого было мало. Тобик умирал, и жалость к нему у Фали была какая-то тупая, какая-то чужая, холодная, не прежняя Фалина жалость. Прежнего в Фале теперь ничего не было. Ни прежней жалости, ни радости прежней, ни прежнего такого счастливого, в сущности, горя. Ничего. Ничего прежнего не было.