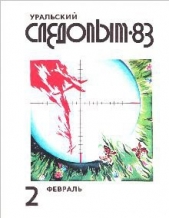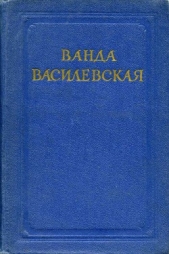Звук паутинки

Звук паутинки читать книгу онлайн
Повесть украинского детского писателя Виктора Семёновича Близнеца (1933–1981) — о детстве сельского мальчика, о познании окружающего мира и детских мечтах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что делать? Ну что делать?
А время шло, день клонился к вечеру, и в глазах мерещилось: Глыпы… шаркают с пилой… Уже, наверное, где-то поблизости…
Не помню, как вынесло меня на гору, как я прибежал домой. Обогнул двор, заглянул во все углы — ни души. Дверь в хату закрыта на палочку, в сарае щебечут ласточки, зияет погреб чёрной дырой. «Ну, — подумал я, — кого я ищу? Вчерашний день? Мама ведь в поле…»
И не переводя дыхания помчался в степь. Дорога ещё теплая, ноги утопали в мягкой пыли, с хлопаньем вылетают из-под ног серые облачка. Я бегу рысцой, а мысли — еще быстрее: представляю, как я встречусь с матерью, как расскажу ей обо всём, как мы вдвоём бросимся к реке. «Ну, — опять подумал я, — куда я бегу?.. Где мать? Я ведь не знаю, где она работает…»
Повернулся — и обратно, и несусь со всех ног. Грудь сдавило, дышать трудно. Прибежал домой и руками развёл: а теперь куда, к кому обратиться?
Сироха не поможет: старая.
Адам не поможет: не встаёт.
Глыпа… а Глыпа с пилой… и скрежещут кости.
Я сорвался, понёсся к селу. Что бы там ни было, а кого-нибудь да позову.
Солнце низко, оно почти касается земли, на пути к селу ни души, серые от пыли репейники выстроились у дороги, и только одна фигурка вынырнула из степного овражка. Женщина в белом платке. И походка знакомая, медленная и усталая. Ты смотри, это же мать!
И не припомню, как очутился возле матери, как уткнулся в её тёплые шершавые руки и сдуру всхлыпнул (то ли набегался, то ли наволновался?) и что-то несвязное бормотал про коня и про Глыпу.
Мы стояли вдвоём, никого не было на вечерней дороге; мать приласкала меня, прижала к груди мою голову и пальцами, одними кончиками их (мягко, едва касаясь), стала причёсывать волосы, гладить шею, немытый затылок и смугленькие, как она выразилась, уши. Потом начала говорить, чтоб я успокоился, всё будет хорошо, а «горе с бедою сплывёт за водою». Глыпа сегодня не придёт, говорила мать, в сельмаг привезли молдавское вино, и родненькие братья так зацепились за ящик с бутылками, что теперь их вряд ли кто поднимет на ноги до самого утра. И ещё она сказала: если Бакун попал в беду, то лучше не трогать его, не мучить, лучше оставить одного. Он сам себе поможет.
…И этой ночью я летал на Бакуне, падал с горы, и снилось мне какое-то страшилище — оно подкралось к нашей хате и угол топором подрубает. Уже трещит, оседает хата, и вода течёт под кровать… Мать разбудила меня, спросила, не перекупался ли я, а если нет, то чтоб спал и не ворочался.
А утром выглянул в окно — словно медведи накурили, ничего не видно, туман.
Будто марлей задёрнуло вербы, кусты осоки над рекой, и наш сад, и терновник на том берегу.
Я побежал вниз, к реке, и, удивлённый, остановился среди луга. Странно: облачко тумана идёт, приближается, окутывает тебя с головы до ног, тонкими нитями проходит мимо тебя и через тебя — и не дотронется, не прикоснётся, не зацепит волоска. Но чувствуешь: лицо, волосы, рубашка — всё от влаги смягчается, и на губах привкус дождевой воды.
Я постоял, зачерпнул пригоршнями редкую пелену тумана и побежал к броду.
Там ведь Бакун. Лежит, бедняга, как скованный. И ничего, конечно, не ел. Надо ему хоть травы нарвать.
Обошёл кусты бузины и вдруг: «Фырр!..» Фыркнуло на меня из-под куста, из тумана. Я вздрогнул, даже присел с перепугу! Сердце чуть не выпорхнуло из груди, как воробей.
А из куста — морда… Лошадиная.
«Бакун, так это ты?! А, чтоб тебя!»
Подскочил к коню, повис у него на шее. А он стоит и словно улыбается, губы у него зелёные, соком травянистым подкрашенные.
«Бакун, кто же тебя освободил? Или, может, ты сам? А ну, покажи лапу…» Да, вот я уцепился за гриву, а конь ведь хромой. Одну (это ту, раненую) ногу он держал на весу; я дотронулся до коленной чашечки, и Бакун с болью прижмурил глаза. В самом деле — сильно обранена передняя нога: кожа содрана, копыто разбито, и кровь запеклась под шерстью.

Мы поговорили с конём, я причесал его, из ранок и язвочек повыковыривал грязь, а он удовлетворённо пофыркал, обдавая меня запахом горячей жвачки, и я отпустил его: «Иди, Бакун, пасись…»
Высоко вскидывая голову, конь с трудом поскакал в лозняки.
Понемногу рассеялся туман, показалось белое солнце, на него можно было сколько угодно смотреть: оно не слепило глаза. Я сидел у брода, на камне, похожем на спину слона, и смотрел вверх: солнце то появляется, то пропадает в серых лохматых тучах. Не знаю, долго ли так сидел, как вдруг услышал: кто-то спускался с горы и громко басил.
Я вскочил на ноги. Это шли Глыпы!
У одного через руку перекинут брезент, у другого — топор и большой острый нож. Направляясь к броду, братья весело разговаривали, дымили цигарками. Думают, что здесь их дожидается Бакун, зажатый камнями.
И вдруг встретились они: Глыпы к реке и конь к реке. Остановились как вкопанные. И уставились глазами: Глыпы — на коня, а конь — на братьев. Бакун оторопело всхрапнул, а потом… а потом я не поверил себе. Старый смирный конь, который только что припадал на ногу, и вдруг… и вдруг как брыкнул, как фыркнул по-молодецки и пошёл, правда прихрамывая, но с таким прискоком, что я давно его таким не видел.
Где-то там, на другом конце луга, разнеслось его победное ржание.
Братья переглянулись, и глаза их широко открылись.
— Так что, брат, осечка? — спросил Гавро.
— Расклинило, — только и вымолвил Глыпа.
И двинулись братья домой.
А там, где стояли они, я увидел куст с волчьими ягодами на колючих ветках.

Врач Бусько

В сарае полутемно. Двери низкие, даже крошечного окошка нет, и когда пройдёшь в дальний угол, где стоят обгрызенные ясли, — там и вовсе темно. И что-то в яслях попискивает, шуршит в стенах, трещит в трухлявых досках. Сарай будто весь шевелится от беспокойных поселенцев.
Я далеко не захожу, присаживаюсь возле дверей и жду. Снаружи падает свет. Солнце то печёт мне шею, то уходит.
Наверное, небо затягивается облаками. Клонит ко сну.
Я терпеливо жду.
И вот влетает в сарай ласточка. Ныряет под самой притолокой и ни за что не зацепится. Вот умеет нырять! Не один раз я видел, как ласточки играют с Бакуном. Конь пасётся на лугу, а они заходят издали, подкрадываются к нему тихо, над самой землёй. Низко-низко летят, и вдруг одна из них — шмыг под коня! Промелькнёт у него под животом и вверх, и озорно защебечет. Одна пролетит, потом две, потом целая стая — сверкает, проносится под конём, едва не касаясь земли, будто дразнят: «Чигик!.. Не поймал?» Конь жуёт траву, изредка махнёт хвостом, спокойно поведёт ухом, и нет ему дела до ласточек, до их баловства. Впрочем, иногда и Бакун сдержанно фыркнет, если какая-нибудь ветрогонка прошмыгнёт у него перед самым носом.
С такой же смелостью влетает ласточка и в дверь. И будто ещё с улицы видит, что потолок в сарае подпёрт столбом, круто обогнёт столб, покружит по сараю — и в гнездо. Она и не чирикнула, и не шелохнула крылом, влетела тихо, как тень. Но смотрите: словно по сигналу, проснулись птенчики. И тут же: «Чик, чирик, чик!» — защебетали все вместе, их и не видно в гнезде, только серенький пух и широко открытые клювики. Эти жёлтые горластые рты ловят, просят, умоляют есть! А птенец, который понахальнее, забирается повыше других и уже заглатывает червяка чуть ли не с клювом матери.
Вот и попробуй на таких напастись!
Улетела ласточка, и птенчики спрятались. Уснули. Как будто их и нет в гнезде.