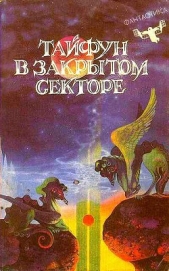Одолень-трава

Одолень-трава читать книгу онлайн
Юный художник Гаврюша Бархин живёт в далёком северном краю, возле Белого моря. Свою неутолимую страсть к рисованию Гаврюша проносит через всю тяжкую нору войны, трудные послевоенные годы. Его духовный мир формируют душевно щедрые люди, самобытная северная культура, любимая школа, суровая и пленительная природа Севера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Постучал в окно. Дёрнулась занавеска, за окном вспыхнул свет.
— Опять леший кого-то принёс, — донёсся из-за двери шамкающий басок.
— Я… мне… скажите, продавец здесь живёт?
— Тут. А вам чего?
— Мне… я… — перехватило у Гаврюши в горле.
Дверь заскрипела, из дому вывалился дед, без шапки, в накинутом на плечи полушубке.
— Дак чего там мнёшься? Входи в избу, что ли, — сказал он сердито.
Кое-как отодрав лыжи, пошатываясь, Гаврюша вошёл в избу. Пахнуло в лицо теплом, устоявшимся запахом жилья, от которого на глаза навернулись предательские слёзы.

— Паренёк, да ты откуда это? — вскинулась навстречу полная женщина.
— Из посёлка я…
— Из посёлка?! — переглянулись дед и женщина. — Да ведь до посёлка-то… Ох те мне!..
Они быстро раздели его, не слушая возражений, растёрли ему руки и ноги и засунули на тёплую широкую печку. Всё тело его теперь жарко горело, в пальцы рук и ног точно впились тысячи острых иголок. От этой боли свет мерк в глазах, и, чтобы не завопить во всё горло, Гаврюша сцепил зубы, мычал, корчился, покачиваясь из стороны в сторону.
— Эх, парень, парень, пороть тебя некому, — разводил дед руками. — В таку-то непогодь! Ану-ка, не приведи господь, волки или дорогу потеряй… Эх!. И что за лешаки понесли тебя в такую-то даль?
— Да краски… я слышал… у вас продаются акварельные краски.
— Краски?! Да ты что, милок, в своём уме? В таку даль за какими-то красками! Мыслимо ли дело! Да пропади они пропадом! Матрёна, ты только погляди, за красками пришёл!
— Сам-то чей, молодец, будешь? — спросила Матрёна, раздувая самовар.
Гаврюша ответил.
— Деда-то твоего, Матвея, знавали, знавали, — закивал радостно дед. — За зверем вместе в одной лодке в море промышляли. Почитай, парень, двенадцать путей [15], зимних и вёшных, выходили с твоим дедком-то. Эвон сколько! Под одной одевальницей [16] спали.
— Ну, дедко, пустился теперь в путь-дорогу, не остановишь, — добродушно проворчала Матрёна от самовара.
— Спустимся в море, на льды выберемся, — продолжал вдохновенно дед, — рыщешь, ищешь зверя, бывало, не один день. Охотились больше на нерпу, моржей в Белом море мало, да и шкура толста у тех.
Отчаянны были головушки, через разводья прыгаешь, как лось, — ничего не страшно. Побегаешь, бывало, походишь в разведку эдак-то, пока зверя-то сыщешь. Стреляли наверняка, из-под ветра. Шкуры с салом на ремень соберёшь и по воде тащишь к лодке, а то и по льду — шкуры-то у нерпы покаты. По разводьям попадали к берегу, если ледокол близко — на ледокол шкуры сдавали.
На ночь лодку вытаскивали на льдину. На дрова кинешь оленьи шкуры, ложишься по уставу, как заведено. Накрывались все одной одевальницей.
Другой раз ветер как подойдёт, льдину заломает, закруглит, до свету бьёшься, пластаешься, ищешь большую льдину. Ох-хо, парень, всяко бывало. Не зря старики говорили: зимний промысел — как из кипящего котла выхватить голоручь мяса кусок. А ещё добавляли: либо нерпу уловить, либо головушку положить. Ох-хо, море — горе, а без моря — вдвое…
Тем временем Матрёна поставила на стол клокочущий самовар и налила Гаврюше крепчайшего чаю, влив в чашку ложку спирту. Обжигаясь и отфыркиваясь, Гаврюша выпил несколько блюдец, почувствовал, как, отогревая нутро, живительным теплом растекается по телу душистая огненная влага. После чая, разомлев, тут же за столом уронил он голову на грудь. Сквозь полусон видел, как Матрёна стелила постель. И едва она уложила его в кровать, он, словно в тёплую прорубь, провалился в глубокий желанный сон.
Проснулся Гаврюша на другой день после полудня. За столом, поближе к окну, сидел дед и чинил его валенки, орудуя большой иглой-парусницей: такими раньше шили паруса.
— Проснулся, молодец? Ну, вставай. Обедать будем.
Гаврюша повернулся и чуть не застонал от боли: всё тело, будто отбитое, ныло и болело при каждом движении. «Клин клином вышибают», — вспомнил он отцову поговорку и, кряхтя, поднялся. Умывшись, сел за стол. Есть не хотелось, но немного поел, выпил чаю. Стало полегче.
Дед всё допытывался:
— Эх, парень, парень. Дома-то не ночевал, мать-то, поди, всю душу извела?
— А я записку оставил, чтобы не волновались. Написал, что пойду на охоту, на Большой Чеце заночую. Дорога туда известная — не страшно.
— Записку-отписку! Ремнём бы тебя пополоскать для вразумления, оно бы знал тогда — «не страшно».
Гаврюша оделся и вышел на двор. Можно было только подивиться перемене, происшедшей в природе. Метели и след простыл. В воздухе ни ветерка, ни снежинки. В белёсом, будто отстиранном и вымороженном небе низко висело морозное белое солнце. Гаврюша заторопился в магазин.
— Проснулся, — улыбнулась Матрёна. И тут же засуетилась, выталкивая двух покупательниц: — Закрывать, закрывать пора на обед, бабы.
— А краски? — тихо спросил Гаврюша.
Матрёна беспомощно развела руками.
— Парничёк, нету красок-то. Неделю назад Ваське Широкому последнюю коробку отдала. Выпатрал одну и вот, на тебе, последнюю унёс.
Белый свет помутился в глазах Гаврюши, твёрдый комок подступил к горлу. Если бы ему сейчас отрубили палец, и то, наверно, было бы легче.
— Да ты не переживай, паренёк. Жили без красок и ещё проживём, — утешала добрая Матрёна. — А то давай сходим к Ваське. Зачем ему, пачкуну, те краски?
Дом Широких стоял над рекой, почти в конце села. Чувствовалось, что в доме нет хозяина — мужчины: крыша просела, прогнулась от времени, крыльцо, ведущее в верхние комнаты, скособочилось, во взвозе, что вёл на поветь, не хватало половины брёвен.
Матрёна и Гаврюша смахнули снег с валенок голиком, стоящим у ворот.
Переступив порог избы, Гаврюша непроизвольно огляделся и ахнул. Все стены избы были обклеены рисунками. Забыв, зачем пришёл, он с интересом принялся рассматривать рисунки. Чего тут только не было: безбожно дымили большие и малые пароходы, над волнами реяли быстрокрылые чайки, больше похожие на орлов-исполинов; толстопятые мальчишки ловко удили полосатых окуней, яростно изрыгали огонь могучие победоносные танки, под полными парусами кренились пиратские корабли, бравые моряки расставляли свои широкие клёши, стоя под совершенно невообразимыми деревьями; румяные партизаны в лихо сдвинутых шапках-ушанках, с огромными автоматами наперевес, вели на поводу пса-фашиста, всего увешанного крестами, в каске, смахивающей на ночной горшок; рядом желтели и алели сочные ягоды морошки — каждая ягода с маленькую избушку; с такими же алыми рожицами стояли по ранжиру белоголовые ребята-близнецы, в руках они держали корзины, из которых выглядывали оранжевые рыжики и розовые сыроежки, каждая с добрую тарелку; неистово схлёстывались витязи-бородачи с огромными щитами, с толстенными руками, мечи и копья в их ручищах смахивали на добрые оглобли; тут же большеголовый старичишко Черномор с зелёной бородищей мёртвой хваткой вцепился в косу лупоглазой подмигивающей девицы с растопыренными руками; рядом с этой сценкой красовался ядрёный флотский мужик, взмахнувший сигнальными флажками; дымил всеми трубами и палил из всех орудий на полном ходу линкор. Да и вообще тут преобладали корабли, лодки, моряки, якоря, паруса. Всё было нарисовано сочными, яркими мазками, размашисто, густо, броско, штрихи и линии смахивали на яростные закорючки, мазки зачастую были похожи на кляксы, в некоторых местах бумага, не выдержав яростного карандаша, порвалась — во всех рисунках так и сквозили избыток сил и неудержимое озорное лукавство. Гаврюша был в восторге.
— Тебе чего? — услышал он сзади сердитое.
Гаврюша обернулся. Перед ним, уперев руки в бока, набычившись, стоял крепкий мальчишка его лет. Лобастая голова его была недавно острижена наголо, под левым глазом краснела свежая царапина. На руках, обнажённых по локоть, виднелись следы сенной сечки. «Наверно, только из хлева», — успел подумать Гаврюша.