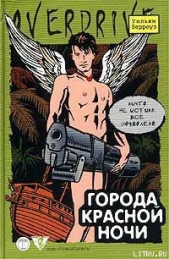Дунайские ночи

Дунайские ночи читать книгу онлайн
Роман Александра Авдеенко «Дунайские ночи» завершает его знаменитую трилогию о пограничниках. Главным героям — следопыту Смолярчуку, генералу Громаде, чекисту Гойде — предстоит предотвратить самые хитроумные попытки американской агентуры нарушить государственную границу. Читатель вновь побывает в «Отделе тайных операций» и ЦРУ, там, где планируются заговоры против мира и безопасности народов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Светлее, казалось ему, стало на острове. В разрыве дождевых туч блеснула звезда. Дунай сбросил с себя тяжелую ношу ненастной ночи, засверкал чешуей.
Вот и родная хата. До того белая, что больно смотреть на нее. Вот такой сияющей она и представлялась ему в миражных африканских видениях.
Под окнами поднимается ветвистый высокий тополь, посаженный Дорофеем в тот год, когда женился. Теперь он виден издалека. Как быстро прошло время. Тополь вырос, а он…
Прислонился щекой к серебристой мокрой коре дерева, со страхом и надеждой смотрел на белую, с темными глазницами окон хату. Пятнадцать лет назад оставил здесь мать, жену, сыновей. Живы ли? Как живут: в голоде? холоде? нужде? в радости? Может быть, Мавра вышла замуж и забыла, что любила какого-то Дорофея. Не чужой ли он и сыновьям? Не называют ли отцом чужого человека, нет ли у них сводных братьев и сестер?
В конце улицы закричал первый петух. Откликнулся второй на соседнем дворе. И загремело, покатилось по острову зоревое кукареканье.
Дорофей стоял под тополем, не зная, что делать дальше. Спрятаться в какой-нибудь норе, тайком высмотреть оттуда, как живут Глебовы? А что, если постучать в оконную крестовину кулаком и во весь голос крикнуть: «Эй, Мавра, открывай, встречай законного мужа!» В хате поднимется переполох. «Муж? Какой муж? Откуда взялся? С того света?» Тогда он крикнет еще раз: «Открывай, Мавра! Это я!» Она неспешно выйдет, грозно спросит: «Вернулся?… Где скитался столько лет? Что делал? Кому служил? Если ты добрый человек, зачем выбрал такую ночь? Почему побоялся светлого дня?»
Какими словами он смягчит ее ожесточенное обидой и долгим одиночеством сердце?
«Надо пока спрятаться, — решил Дорофей, — а там видно будет».
Рядом с хатой, под одной с ней крышей, просторный коровник. Дверь по-летнему открыта настежь и подперта колом.
Дорофей переступил порог. В нахолонувшее лицо дохнуло коровье тепло и сладкий дух увядших на жарком солнце трав и цветов.
Ощупью, уверенно продвигался вперед по хорошо знакомому коровнику. Вот колышки, где в ненастную погоду обычно висели сети. Висят и сейчас. Кадка с водой. Рундук для кукурузы и отрубей. Огромный костыль с фонарем.
А вот и корова. Рослая, темная, с крупными белыми пятнами по хребту. Она доверчива повернула к чужому человеку голову. Понюхала, пожевала просяще губами, отвернулась.
За дверью, ведущей из коровника в хату, послышался кашель, а потом неторопливые шаркающие шаги.
Дорофей бросился в дальний угол, где лежал ворох сена, зарылся в него.
Позванивая ведром, вошла в коровник невысокая худощавая женщина. Голова повязана полушалком. На плечи накинута телогрейка.
Дорофей едва сдержался, чтобы не броситься навстречу матери.
Корова шумно вздохнула и тихонько замычала.
— Ну, здорово, здорово! — проговорила. Домна Петровна. — Как ты тут ночевала-зоревала?
Она обмыла и вытерла корове вымя чистой тряпкой, села на скамеечку, и тугие струи молока зазвенели в белом ведре.
Закончили свои песни петухи. Посветлел дверной проем. Темнота уползла за Дунай, в плавни. На краю неба пробился алый родничок.
Дорофей затуманенными от слез глазами смотрел на мать, освещенную полосой света. Постарела! Глубокие морщины посекли и лоб, и подбородок, и даже нос. Только брови все те же — густые, сросшиеся на переносице, смолисто-черные. Все забыл сейчас Дорофей: где был, что делал, зачем явился на Дунай. Только любил мать, только добра желал ей.
— Мама!.. — позвал он. — Матунюшка!..
То ли шепот его услышала Домна Петровна, то ли материнское сердце угадало, почувствовало близость сына — она бросила доить, тревожно насупилась, посмотрела в угол коровника, на ворох сена.
— Матуня!.. Матуха!..
В самые лучшие дни своей жизни, в далеком детстве, Дорофей так называл мать. Матуня!.. Матуха!.. Матунюшка! Как заклинание произнес Дорофей сокровенные слова. Умолял о пощаде и вместе с тем властно требовал. Мать не имеет права не быть матерью.
— Господи Иисусе Христе!..
Домна Петровна вскочила. Верила своим ушам и не верила. Спину прохватывал ледяной озноб. Готовая смеяться от счастья и разрыдаться, смотрела в угол, на ворох сена, на темное пятно, похожее на человека.
— Маманя!.. — Дорофей бросился к матери, целовал ее губы, щеки, шею, руки, голову.
Перевел дыхание, прижался мокрой щекой к ее щеке, зажмурился, тихонько всхлипывал.
— Ты?… Ты, Дорофеюшка?
Натруженные, не отдыхавшие шестьдесят лет руки Домны Петровны ощупывали сына. Нашли крупную родинку над правым ухом.
— Дитятко мое! Пришел!.. Пробился!..
— Я к тебе, матунюшка, много лет пробиваюсь.
— И я… каждый день, каждую ночь ждала.
— Ну вот, дождалась. Здравствуй, матика!
— Здравствуй, роднуша!
Какая она маленькая, сухонькая и беззащитная. И как хорошо пахнет — яблоками, сухими травами, парным молоком.
Дорофей гладил мать по голове и плакал.
Корова, должно быть удивленная тем, что ее перестали доить, повернула голову к хозяйке, замычала.
Домна Петровна машинально потрепала корову по упругой атласной шее. А взгляд ее прикован к лицу сына. Смотрит на сорокалетнего Дорофея, вспоминает, каким он был. Вот он ищет жадными губами материнскую грудь; вот впервые улыбнулся; вот сделал первый шаг; вот бежит навстречу матери по берегу Дуная, босоногий, в красной рубахе, надутой ветром.
Вспомнила тот день и час, когда он появился на свет.
Родила его в рыбачьей лодке, на взморье. Перекусила пуповину, обмыла сына соленой морской водой, завернула в то, что оказалось под рукой, в свою рубаху, в рыбачью сеть.
— Мама, маманя!..
В коровнике совсем посветлело.
Шлепая по воде плицами колес, прошел рейсовый пароход.
С реки потянуло утренней свежестью.
С гоготом побежали в соседнем дворе тяжелые домашние гуси и, подлетывая, заспешили на привольные пастбища.
Дунайский фарватер розовел. Зоряно светились и крылья ветряка. Маячный огонь мигал тускло.
— Ну, маманя, говори прямо: всем я тут желанный? — спросил Дорофей.
— Всем, милый ты мой, не сомневайся! Ой, как ты дрожишь! Тебе холодно? Пойдем в тепло.
— А Мавра?… — Голос его осекся, дыхание прихватило. — Замуж не вышла?
— Не наговаривай на жену. Одна живет, да вот только…
— Ну?
— Не узнаешь ты ее.
— Что ж так? Постарела?
— Все сам увидишь, сынок… Пойдем.
Дорофей посмотрел на дверь, ведущую в дом.
— Долгонько спать любит. Раньше, бывало, до зари по двору бегала. Разбуди ее, предупреди.
— Нету ее дома.
— Где же?
— Уехала в Москву.
— Зачем ей Москва понадобилась?
— Понадобилась!
— Не заблудится?
— Мавра-то? — мать улыбнулась.
Насторожился Дорофей. Что-то тут не так.
— А ребята дома?
— И ребят нету.
— В школе?
— Это в их-то года?! Опомнись, отец! Старшему двадцатый пошел, младшему — восемнадцать.
— Где же они? На рыбалке?
— Хватай выше!
— Не понимаю. Чего-то недоговариваешь.
— Ох, сынок, десять коробов я тебе недоговариваю! — Она вытерла о ситцевый фартук руки. — Пойдем, в доме все расскажу… Не упирайся! Иди на свет божий, дай мне разглядеть тебя как следует.
— Постой, маманя! Нельзя мне на свету быть. С той стороны я сюда пробился!.. Беглец.
Домна Петровна не ждала от сына таких слов. В глазах ее уже не светилось счастье. Они наполнились страхом.
— Беглец?… Откуда?… — прошептали похолодевшие губы, а руки безжизненно повисли.
— Границу нарушил. Под водой. В маске. Сделался жабой, чтобы вырваться домой. Ох, мама, и натерпелся!.. По самые ноздри хлебнул горькой жизни. Невмоготу больше, вот и вернулся. Добром нельзя было, так я хитростью выкарабкался.
Домна Петровна окаменела, слушая сына.
— Известно, не помилуют власти, если узнают, что объявился я.
— Если узнают?… — переспросила Домна Петровна. — А разве ты скрываться хочешь?