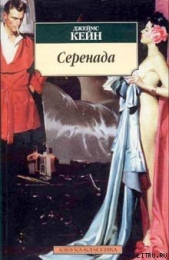Почтальон всегда звонит дважды. Двойная страховка. Серенада. Растратчик. Бабочка. Рассказы
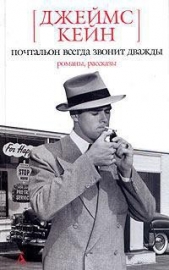
Почтальон всегда звонит дважды. Двойная страховка. Серенада. Растратчик. Бабочка. Рассказы читать книгу онлайн
Джеймса Кейна наряду с Дэшилом Хэмметом и Раймондом Чандлером некоторые критики называют одним из основателей «крутой» школы в классическом американском детективе. В настоящем издании собраны «засветившиеся» в списках бестселлеров романы Кейна «Почтальон всегда звонит дважды», «Двойная страховка», «Серенада», «Бабочка» и «Растратчик», а также ряд рассказов. «Все беды от женщин» — так можно было бы охарактеризовать сюжетную схему, которую автор использовал в большинстве своих книг. Однако у Кейна никогда до конца не ясно, кто кого искушает, ангел перед нами или демон в ангельском обличье. Любовные отношения между героями романов Кейна — это всегда огонь, страсть, кровь и… предательство.
Любители детективов найдут в романах Кейна захватывающую интригу, напряженное действие и возможность проявить свои дедуктивные способности; поклонники любовных романов погрузятся в пучины темной страсти; не оставят равнодушными произведения Дж. Кейна и увлекающихся психологической — «серьезной» литературой.
Роман «Почтальон всегда звонит дважды» публикуется в новом переводе.
СОДЕРЖАНИЕ:
Почтальон всегда звонит дважды.
Двойная страховка.
Серенада.
Растратчик.
Бабочка.
Рассказы:
— Младенец в холодильнике,
— Труп на рельсах,
— Девушка под дождем,
— Побег,
— Пастораль.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, мы въехали. В доме обнаружилась еще одна пара — японцы. Они не говорили ни по-английски, ни по-итальянски, ни по-испански, и мы объяснялись жестами, в чем было огромное преимущество — много узнать о нас они не могли. Я днем и ночью занимался испанским, чтоб мы с ней могли объясняться при посторонних, не прибегая к английскому, причем по-испански старался говорить с итальянским акцентом, хотя уверенности, что это должно звучать именно так, не было. Впрочем, для японцев вполне сойдет, и в доме нам пока ничего не грозило.
Мы вздохнули уже с большим облегчением, и начались будни. День проводили дома, как правило, лежа в спальне наверху. Вечером выходили и шли гулять в парк, где играл оркестр. Правда, слушая его, старались устроиться подальше, на пустой скамейке в заднем ряду. Затем возвращались, гоняли москитов и ложились спать. Больше заняться было просто нечем. Гватемала — это нечто вроде Японии, с той разницей, что находится она в Центральной Америке. Они копировали всех и все. Мексиканскую музыку, американское кино, шотландское виски, германские деликатесы, романскую религию, все прочее экспортировалось тоже. Правда, в отличие от японцев, они забыли привнести что-то свое, традиционное, и поэтому, приехав в любой из уголков этой страны, даже на пари нельзя было отличить его, скажем, от Глендейла в Калифорнии или какого-либо другого места. Везде чисто, современно, богато и скучно. Кстати, погода тоже вносила свою лепту. Мы оказались там в июле, в разгар сезона дождей. Судя по учебникам, дождей в Центральной Америке не предполагается вообще, но это — глубокое заблуждение. Они идут тут часто, холодные серые дожди, порой по два дня кряду льет так, что носа на улицу не высунешь. Затем появляется солнце и наступает такая липкая, удушающая жара, что становится просто нечем дышать, и в дело вступают москиты. Разреженный воздух достает не меньше, чем в Мексике. Гватемала-Сити расположен на высоте мили над уровнем моря, и ночью порой наступает такое удушье, что кажется: вот-вот умрешь, если в легкие не удастся протолкнуть хотя бы маленький глоток воздуха.
Я видел, как постепенно, понемногу она меняется. Заметьте, что с момента выезда из Нью-Йорка об Уинстоне не было произнесено ни слова, равно как и ее поступок, моральная его сторона, не обсуждался вовсе. Что было, то прошло, и мы избегали даже намеком коснуться этой темы. Мы болтали о японцах, москитах, о том, где теперь Коннерс, и прочих подобных вещах, вздрагивая при каждом подозрительном шуме, и, казалось, были близки, как никогда прежде. Но постепенно все утряслось, успокоилось, мы принялись обманывать сами себя, уверяя, что в полной теперь безопасности, и тут она начала хандрить, и время от времени я ловил на себе ее странно-испытующий взгляд. Потом заметил: еще одной запретной темой стало мое пение. Однажды вечером, когда мы, собравшись в парк, спускались вниз по лестнице, я мурлыкал какую-то мелодию и уже приготовился взять высокую ноту, как вдруг заметил выражение ужаса на ее лице и тут же смолк. Она остановилась, прислушиваясь, но, похоже, японцы были в кухне, и все на этот раз сошло благополучно. Только тут до меня по-настоящему дошло, в каком положении я оказался. Ведь, выходя из комнаты, я и не помышлял о пении. Но здесь, равно как и в любом другом уголке к югу от Рио-Гранде, каждому жителю мой голос был знаком не хуже, чем банан. Мое фото в костюме лесоруба было расклеено во всех витринах «Панамьер», а «Пабло Баньян» шел в городских кинотеатрах примерно месяц назад, даже ребятишки насвистывали на улицах «Мой дружок Бейб». Если я не хочу отправить ее на электрический стул, петь я больше не должен, никогда.
Я старался не думать об этом и, когда читал или каким-то иным образом занимал свои мысли, не думал. Но невозможно же читать все время, и вот днем я с нетерпением ожидал, когда она проснется после сиесты, чтоб было с кем поговорить, попрактиковаться в испанском и забыться. А потом начались боли в переносице. И не то чтобы я сожалел о прекрасной музыке, которую теперь не могу петь, о какой-нибудь прекрасной песне, которую теперь не могу подарить миру, нет. Все обстояло гораздо проще и тем страшнее. Голос — явление физическое, и если вы обладаете им, он как бы часть вашего организма. Он сидит в вас и просится наружу. Это сравнимо, пожалуй, только с одной вещью: если вы долгое время не были с женщиной, начинает казаться, что, если сейчас же, немедленно не удастся с ней переспать, вы сойдете с ума. Переносица — вот где сосредоточен ваш голос, достаточно сделать совсем небольшое усилие, чтобы вытолкнуть его наружу, и я начал ощущать это как-то особенно остро. Я разговаривал, читал, ел, старался не думать об этом и не думал, но потом вдруг боль просыпалась снова.
Потом начались сны. Я стою там, на сцене, мне подают реплику, пора выступать, я открываю рот, но из него ничего не выходит. Я просто умираю, до чего хочется петь, но не могу. В зале поднимается ропот, ОН стучит палочкой, делает знак оркестру начать снова и смотрит на меня.
Тут я просыпаюсь. Затем как-то ночью, когда она ушла спать в свою постель, случилось нечто, что заставило нас коснуться запретной темы. Дело в том, что в Центральной Америке у них на каждом углу понатыканы радио, один такой репродуктор находился кварталах в трех от нашего дома, и по нему постоянно передавали всякую муть. Этот к тому же ловил еще Лондон, причем передачи почти не прерывались рекламой и прочей ерундой. Днем они транслировали «Севильского цирюльника» полностью, всего лишь с двумя маленькими купюрами, а вечером играли Третью, Пятую и Седьмую симфонии Бетховена. Затем где-то примерно около десяти какой-то парень начал петь серенаду из «Дон Жуана», ту самую, что я пел Коннерсу в Акапулько и с которой солировал в «Мет». Парень оказался молодцом. В конце он даже выдал «messa divoce», точь-в-точь как я. Я даже засмеялся в темноте… Наверняка он слышал, как я пою.
Она молчала, а потом вдруг я почувствовал, что она плачет. Я встал и подошел.
— Что случилось?
— Милый, милый, ты теперь оставлять меня. Ты ехать. Мы прощаться.
— Новое дело… Чего это на тебя нашло?
— Ты не знать, кто это был? Кто петь? Сейчас?
— Нет. А что?
— Это был ты.
Она отвернулась и вся затряслась от рыданий, и я понял, что только что слышал в трансляции одну из записей моего концерта.
— Да? Ну и что с того?
Должно быть, дрожь в голосе меня выдала. Она встала, включила свет и принялась расхаживать по комнате. Абсолютно голая, она всегда спала голой в душные жаркие ночи. Но только теперь она уже не напоминала модель для скульптора. Расхаживала ссутулившись, как старуха, плоскостопой шаркающей походкой, как ходят индейцы, вперив неподвижные, словно два камешка, глаза в пространство, с волосами, свисающими на лицо. Наконец рыдания немного утихли, и она подошла к комоду, выдвинула ящик, достала серую rebozo и накинула на плечи. Снова зашагала по комнате. Затем сказала:
— Теперь ты ехать, да? Теперь мы говорить adios.
— Что это ты, черт возьми, несешь? Как я могу уехать и бросить тебя?
— Я убивать этот человек, да. За то, что он делать с тобой, за то, что делать со мной. Я должна была убить. Я понимать эти вещи сразу, в ту ночь, когда слышать о immigration, понимать, что я должна убить его. Я спрашивать тебя? Нет. Тогда что я должна делать? Да? Что делать?
— Послушай, ради всего святого…
— Что я делать? Скажи, что я делать?
— Если б я знал, черт!.. Ну посмеяться над ним, что ли…
— Я говорить прощай. Да, я подходить к тебе, помнишь? Хуана подходить, целовать и сказать adios. Да, я убивать его и потом прощай. Я знать. Я так сказать. Ты помнишь?
— Не знаю. Ладно, довольно об этом. Лучше…
— И потом ты приходить на корабль. Я слабая. Я любить тебя сильно. Но что я тогда делать? Что говорить?
— Прощай, наверное. Это все, что ты умеешь говорить.
— Да. Еще раз я говорить прощай. Capitan, он тоже знать, он тоже говорить тебе уйти. Но ты не уйти. Ты остаться. Опять. Я любить тебя очень сильно… И теперь опять три раза я говорить тебе уходить. Это конец. Я говорить тебе прощай.