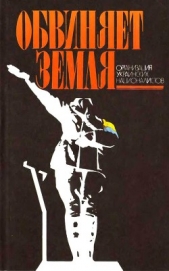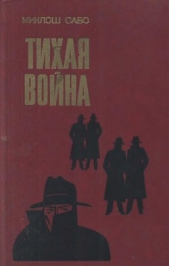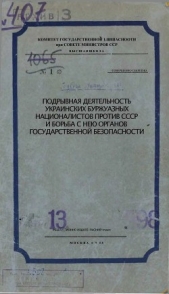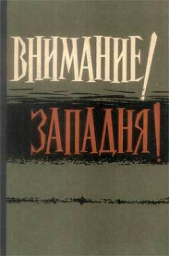Горький дым (СИ)

Горький дым (СИ) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все же Беркут нашел выход. В тридцати километрах лежало в долине богатое польское село, они ворвались в него ночью, подожгли со всех сторон, стреляли и стреляли, наверное, потратили половину патронов, но и мало кто из селян остался живой.
В этом селе сотник Беркут обзавелся бричкой. Возвращался на ней домой — двое гнедых коней, реквизированных у польского трактирщика, не бежали, играли, таких коней в Галаганах и не видели. Даже отец, которого выпустили гитлеровцы из тюрьмы, расплылся в улыбке и сбежал с высокого крыльца, чтобы похлопать гнедого по крутой шее.
Сотник Беркут в тот день был щедр: подарил отцу и бричку, и коней, пусть ездит старик — будто знал, что отцу осталось жить всего несколько месяцев: любил поесть, наверстывал упущенное в тюрьме, совсем расплылся за год и однажды утром не проснулся — слава богу, умер легко и тихо. Сын устроил шумные похороны с колокольным звоном, поминками, стрельбой над могилой отца.
А потом велел запрячь подаренных коней и подаренную бричку и повел сотню на другое село.
Когда это было и было ли вообще? Райские времена, когда гитлеровцы смотрели сквозь пальцы на бандеровские бесчинства, — что ни говори, а с немцами можно было жить, приходилось, правда, кланяться, что ж, такова жизнь, не тому, так другому — все равно поклонишься.
Но и ты хозяин, делай в своем приходе все что хочешь, только бы в главном слушался и, как верный пес, не рычал на хозяина.
А теперь?
От сотни осталось семеро, правда, сотней она всегда только звалась, в лучшие времена насчитывала полсотни вояк, однако — семеро... И еще не известно, как им придется. На всех дорогах заставы, черт бы их побрал, в селах самооборона — ястребки проклятые, куда ни ткнешься, стреляют — и в кого стреляют, в своих же освободителей! Им же добра хотят, а они, скоты, разве могут понять это?
Вчера вошли в Быстрицу, село в двадцати пяти километрах отсюда. Хорошее село, богатое, со сберкассой и магазином. Перебили ястребков, взяли и магазин, и сберкассу, оказалось пятьдесят с гаком тысяч рублей — не так уж и много.
Однако кто-то успел позвонить по телефону из школы или сельсовета в райцентр, и, когда сотня отходила из села, ее встретил отряд энкавэдистов: чуть не окружили, из шестнадцати человек осталось семеро, и то счастье, что ноги унесли. После стычки расположились на поляне между елей, один встал на страже, другие положили оружие, мешки и рюкзаки, — легли на траву отдыхать.
Беркут снял яловые сапоги, подвернул штаны, сел на берег ручья, опустив босые ноги в прозрачную воду. Горная вода приятно холодила натруженные ноги, чувствовал, как возвращается бодрость, а с нею и острота мышления, притупленная утомительным переходом.
Сидел и думал: вот сейчас погуляет в родном селе — и хватит. Хватит с него стычек с энкавэдистами и ястребками, пока есть еще возможность, нужно отходить, прорываться на Бескиды и дальше, к американцам или англичанам. Гитлеровцев уже нет, нужно искать нового защитника и хозяина, а кто на свете богаче, чем американцы?
Прорываться на запад Беркут решил окончательно. Еще идет война, правда, где-то на далеком Востоке, а их вот как прижали, что же будет, когда большевики совсем развяжут себе руки? Дураков нет, пусть кто-то подставляет башку, а у него голова умнее, чем у других: пять лет был студентом во Львовском университете, за такую голову кто-то еще хорошо заплатит.
Беркут вытер ноги и аккуратно обулся. Сделал несколько шагов, пробуя, как сидят сапоги. Всегда следил за обувью и учил других, не дай бог стереть ноги. Сейчас в ногах их спасение — никто не знает, сколько придется идти без отдыха. Может, и в Галаганах засада? Вряд ли, однако нужно предусмотреть все, и на то он сотник, чтобы взвесить хотя бы несколько предстоящих ходов.
Позвал одного из подчиненных.
— Видишь, Петр, от церкви третья крыша справа? Пойдешь туда, только огородами, прошу тебя, незаметно — вон тропинка вдоль ручья, а потом налево поворачивает, видишь?
— Вижу, друг сотник.
— Ты разумный, Петр, я на тебя полагаюсь. Доберешься к дому, выжди, прошу тебя, осмотрись хорошо, а потом найди хозяина: пан Василий Яремкив — сам седой, а брови черные и густые. Расспросишь его, как с ястребками и про засады. Если может, пусть придет сюда с тобой, так и скажешь: Беркут приказал.
Петр поправил на груди «шмайсер».
— Сделаем, друг сотник, — ответил твердо. — А если хозяина нет?
— Хозяйку расспроси. Скажешь, от пана Данила привет, и не задерживайся, прошу тебя, дело еще нужно делать.
— Дело, говорите? — захохотал Петр злорадно. — Дело сделаем, ночь вся впереди, друг сотник, и кто нам помешает?
— А чтоб никто не помешал, иди, Петр, и разыщи пана Яремкива, понятно?
Смотрел, как юркнул Петр в кусты — будто уж или ящерица, ветка не шелохнулась. Умный и ловкий хлопец этот Петр, а главное — отступать ему некуда. Был в дивизии СС «Галичина», потом все время у него в отряде, только вчера в Быстрице уложил двух активистов, полоснул из автомата — и нет. У него с большевиками свои счеты: имел под Дубно два десятка моргов [1] земли, и какой земли, коней, скот, и все это — корове под хвост. Ему колхоз — смерть, и он сражался за свою землю, своих коней, свою усадьбу.
Хлопцы разложили на грязноватом полотенце хлеб, сало и лук, огурцы и две банки консервов, позвали пана сотника ужинать. Кто-то потряс флягой, явно намекая, но Беркут запретил: мол, зайдем в село, разберемся в ситуации — тогда можно, пей и гуляй досыта, а теперь дудки, на этом держимся, вот отряд куренного Лысого как пропал? Напились хлопцы самогонки, и море им по колено, пошли в село, а там их уже ждали, перебили, как куропаток, и Лысого скосили первым.
Ели сосредоточенно, не торопясь, куда торопиться: пока стемнеет, пока все успокоится.
Поевши, легли спать: все, даже часовой, так распорядился сотник — все равно должны дождаться Петра, — и сам встал на пост. Всматривался в тропинку над ручьем, но ничего не видел. Правда, начало темнеть и длинные тени перерезали луга и огороды, потом солнце как-то сразу нырнуло за гору, сделалось темно и холодно, как бывает только в горах: днем жарко, а ночью надевай шубу.
Беркут натянул ватную телогрейку. Тревога лежала на сердце. Что-то задерживался Петр, неужели попал в беду? Навряд ли: ловкий вояка, его голыми руками не возьмешь, а то поднялась бы стрельба...
Тихо, и какая-то ночная птица чирикает... Снова чирикнула совсем близко. Тень мелькнула в кустах над ручьем, и только тогда Беркут догадался, что чирикает совсем не птица: это Петр подает сигнал, чтоб вдруг свои не подстрелили.
Перескочив через ручей — вот это хлопец, даже поднимаясь в гору, не запыхался, — увидел сотника и придвинулся, сверкнув глазами.
— Порядок, — выдохнул возбужденно, — на все село два ястребка с карабинами и председатель сельсовета наган имеет.
— То-то хитро сработал! — обрадовался Беркут. — А председателем Григорий Трофимчук?
— Он, шкуродер проклятый, и сейчас дома.
— Пойдем к нему вдвоем, — решил Беркут, — позабавимся с тобой. Хлопцы к ястребкам подадутся, а мы к пану товарищу Трофимчуку. У меня на него давно руки чешутся. А почему Яремкив не появился?
— Говорит, болен.
— Не врет?
— Да врет, свинья. Перетрусил.
— Сегодня мы, завтра энкавэдисты... Я его понимаю.
— Впервые слышу от вас, друг сотник... Вроде одобряете!
— Нет, Петр, объективно оцениваю ситуацию.
— Я бы тому Яремкиву кнутом...
— На всех не хватит. Иди, Петр, ужинай и ложись спать.
Совсем близко крикнул филин. Хорошая птица, сильная и отважная, и все ночное ее боится. Беркут прислонился к стволу какого-то дерева, слился с ним, чуть ли не обнял: невидимый, неслышный, как лесная тень. Вслушивался в журчание воды, в ночные шорохи, вдруг донесся далекий лай собак. Почему-то сделалось больно: люди живут в теплых хатах, сейчас ужинают, а он, как загнанный волк, вслушивается в ночную тишину. Погладил теплую рукоятку автомата. Надежное оружие, привык к нему. Да скорее бы расстаться с ним. Кто носит оружие, от пули и гибнет, а для чего погибать ему, молодому, умному?