Философ
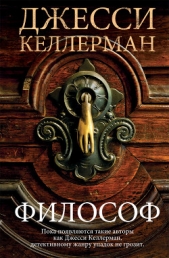
Философ читать книгу онлайн
У Джозефа Гейста наступила черная полоса. Научный руководитель выставила его из аспирантуры, а подруга – из квартиры. Он остался без крыши над головой и без любимых книг. Рюкзак с жалкими пожитками за спиной да голова Ницше под мышкой – вот и все имущество молодого философа. Но жизнь снова поворачивается к нему лицом – точнее, газетой с необычным объявлением, которое кажется Джозефу очень интригующим…
Новый роман автора «Гения», полный литературной игры, перекличек с Достоевским и Ницше и обаятельной иронии, – это изысканный триллер с завораживающим сюжетом о выборе, который мы совершаем, и его последствиях. Джесси Келлерман умеет ублажить читателя, невероятно притягательно сервируя совсем непростые идеи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проблема свободы воли стара, как сама философия, а споры, с ней связанные, и поныне остаются такими же яростными, какими были две тысячи лет назад. Возможно, и еще более яростными, ибо наш мир все в большей мере познается, квантифицируется, механизируется и сужается, – технология, что ни день, сжимает нас во все более крепких объятиях, наука ежедневно сглаживает контуры реальности, а люди, соответственно, испытывают все большую нужду в доказательстве того, что человеческие существа суть исключения из правил, что мы не запрограммированы, но свободны.
В общих чертах – для того, чтобы мы были свободными в сколько-нибудь содержательном смысле этого слова, необходима истинность двух положений. Мы должны сами быть инициаторами наших действий (то есть не должны быть всего лишь падающей, когда приходит ее черед, доминошной костью). Будущее же должно быть «открытым» (то есть у нас должна иметься возможность значащим образом воздействовать на его исход).
Тут-то и выясняется, что условия эти связаны одно с другим и довольно трудны для выполнения. Они со всего маху налетают на концепцию детерминизма, которая представляет собой (в общих, опять-таки, чертах) мысль о том, что существовать может всего лишь одно физически возможное будущее. Почему дело должно обстоять именно так, объяснить сложно, здесь довольно будет сказать, что в ходе лет вопрос этот облекался в самые разные формы, но все равно остался до крайности запутанным. К примеру, очевидное противоречие между существованием всеведущего божества и наличием у человека свободы подчиняться или не подчиняться ему оттолкнуло многих от Церкви или, по меньшей мере, запихнуло на задние ее скамьи. В современном их воплощении детерминистические теории склонны опираться, как на определяющий фактор, на законы природы, – для философов, людей, как правило, нечестивых, законы эти являются предметом разговоров куда более удобным, чем Бог.
Почему для нас так важно быть свободными? Представьте себе мир, в котором подлинная свобода воли отсутствует. Может ли в таком мире кто-либо быть повинным в чем бы то ни было? Если я не являюсь причиной моих действий, представляется неразумным возлагать на меня ответственность за их последствия. И отсюда следует, что две наиболее лелеемые нами концепции – правильного и неправильного – иллюзорны, а единственное, что удерживает нас от жизни в сногсшибательно уродливой реальности, от хаотического, насильственного ада на земле, есть хрупкий, маленький самообман.
В ответ на это некоторые объявляют, что на самом деле мы не свободны, что нам надлежит полностью отказаться от самой идеи свободы. Ницше, например, клеймит метафизическую свободу воли как относящуюся к компетенции «полуграмотных». Однако жесткий детерминизм подобного рода встречается редко. Большинство нравственных философов – это, по сути дела, компатибилисты, признающие силу детерминизма, но не желающие отказаться от идеи о том, что мы можем быть свободными. Они не хотят, чтобы им мешали вкушать их любимое лакомство и так далее, и предлагают с этой целью решения, которые простираются от практических и строгих до невразумительных или сводящихся просто к тому, что нам грозят пальцем. Разыгрывается множество семантических игр; отыскивается множество охотников толковать вкривь и вкось значение понятий «свобода», «причина», «определять», «выбирать». В литературе компатибилистов замечается что-то вроде безысходности, порожденной страхом перед тем, что наш собственный разум обрекает нас на жизнь в мире, где мораль не имеет твердых оснований.
Однако, вне зависимости от того, реальна свобода воли или это концепция непоследовательная, неоспоримо одно: мы ощущаем себя свободными. Ощущение свободы действия есть неотъемлемая часть нашего сознания. Оспаривайте его любыми возможными способами, оно все равно сохранится. Я поднимаю руку и ощущаю себя инициатором этого движения. Я пишу эти слова, и они представляются мне исходящими из глубин моего ума. Расширительно это означает, что мы не можем не считать других ответственными за их поступки, – и черт с ней, с логикой. Такова позиция британского философа П. Ф. Стросона. Вменение в ответственность, говорит он, это такая же часть наших человеческих качеств, как прямохождение, и отрицать это было бы глупо. Свободны ли мы в действительности – это куда менее важно, чем возможность не оказаться, отойдя на шаг от дома, зарезанным насмерть. Теорию Стросона считают важным вкладом в историю споров о свободе воли, в пору ее публикации (1962) она была сочтена революционной и все еще сохраняет значение на редкость практическое. Невозможно, однако, не чувствовать, что она представляет собой образчик тактики увиливания – в том смысле, что снимает основной вопрос онтологии, вопрос о существовании свободы воли, спрашивая: «А какая нам разница?» Однако истинная предпосылка философского исследования в том, что этот вопрос стоит того, чтобы его задали, – и даже требует, чтобы на него ответили.
Вот так начала набирать ход моя новая диссертация.
За три дня, прошедших между визитом полицейских и возвращением Ясмины в Кембридж, мне удалось произвести на свет тридцать страниц нового материала, то есть почти все введение. Столь скорое продвижение вперед делало для меня не важным то, что моя аргументация несколько устарела. (Да и как могло быть иначе? В конце концов, первый вариант диссертации датировался 1955 годом, – замечательно, за семь лет до самого Стросона!) Важно было, что я смогу поспеть к весне. У меня даже название имелось: «Прагматическое обоснование понятия онтологической свободы воли» – хотя я собирался его укоротить, при переводе с немецкого оно получилось каким-то нескладным.
Это были тяжелые дни. Как мог я, зная, что Ясмина где-то рядом, нормально работать, не думая постоянно о том, что она того и гляди вломится в мой кабинет и увидит меня, сгорбившегося над компьютером, и раскрытую диссертацию Альмы на столе, и немецко-английский словарь у меня на коленях? А поскольку спал я все равно плохо, то и начал выползать из кровати в два часа ночи – колени ватные, в голове стоит такой рев, точно в ней камин растопили, – с грохотом ссыпаться вниз, в кабинет, и вводить в компьютер текст, пока над головой моей не раздавались шаги Ясмины, отправлявшейся на утреннее омовение. Тогда я закрывал лавочку до ее ухода на службу, а после проводил день, подремывая, работая, заталкивая в себя еду, и в шесть вечера встречал Ясмину выражениями поддельной радости и разогретым, купленным в магазине ужином.
Ясмина, безусловно, понимала: что-то неладно, поскольку в постели я к ней почти не притрагивался, был дерганым и резким, то и дело зевал и с каждым днем приобретал все большее сходство с трупом. В царапинах под моим правым глазом теперь постоянно пульсировала боль, так что я и замечать ее перестал, перестав замечать ритм этих пульсаций примерно так же, как не замечал ритма, в котором билось мое сердце. И промокал ранки губкой, наносил на них тональный крем, на их заклейку у меня уходило четыре полоски пластыря. И все равно чувствовал, что Ясмина вглядывается в меня встревоженно и устало, как мы порой посматриваем на чужого, дурно воспитанного ребенка, – он, может быть, и не выходит за рамки приличий, но нам все равно хочется, чтобы он знал: мы его не одобряем; и я обзавелся привычкой отворачиваться от нее, едва она входила в комнату. Как-то раз она пристала ко мне с расспросами о том, как я себя чувствую, и я заорал в ответ: конечно, хорошо, просто я занят, у меня дел по горло, я должен думать и думать, разве не так? И тут же, взглянув на ее ошеломленное лицо, я понял, что реакция моя была несоразмерно резкой, и начал сознательно следить за своим голосом, подбирать слова, которые произношу. Впрочем, это оказалось ненужным, поскольку с того дня Ясмина больше не лезла ко мне с разговорами, во всяком случае, о самочувствии моем не заикалась. Думаю, она решила, что у меня пошла работа, – в определенном смысле так оно и было, – и потому мне можно простить некоторое угрюмство. Все же понимают, что от великих умов невозможно ожидать соблюдения поведенческих норм. Она стала ограничиваться разговорами исключительно о ней самой – быть может, надеясь, что они будут отвлекать меня. Либо так, либо она слишком погрузилась в собственные проблемы, чтобы обращать внимание еще и на мои. Мне же оставалось только надеяться, что она и дальше приставать ко мне не будет. Я с ужасом думал о том, что могу наговорить, если она меня допечет. Я и так-то едва-едва сдерживался. Настырное желание признаться ей во всем грызло меня постоянно, губительные для меня слова копошились внизу живота, обжигали горло, готовые – дай только повод – извергнуться наружу. Я не доверял себе и, оставаясь в одиночестве, чувствовал себя намного спокойнее.


























