Философ
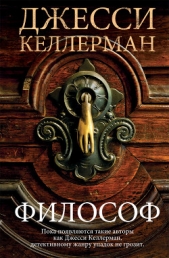
Философ читать книгу онлайн
У Джозефа Гейста наступила черная полоса. Научный руководитель выставила его из аспирантуры, а подруга – из квартиры. Он остался без крыши над головой и без любимых книг. Рюкзак с жалкими пожитками за спиной да голова Ницше под мышкой – вот и все имущество молодого философа. Но жизнь снова поворачивается к нему лицом – точнее, газетой с необычным объявлением, которое кажется Джозефу очень интригующим…
Новый роман автора «Гения», полный литературной игры, перекличек с Достоевским и Ницше и обаятельной иронии, – это изысканный триллер с завораживающим сюжетом о выборе, который мы совершаем, и его последствиях. Джесси Келлерман умеет ублажить читателя, невероятно притягательно сервируя совсем непростые идеи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Знаете, на этот счет даже поговорка имеется.
В двери стоял, почти подпирая макушкой притолоку, Коннерни.
– И какие же у меня возможности выбора? – спросил он.
– Э-э, – проблеял я.
Он обошел меня, оглядел построенный мной на рабочем столе зиггурат из коробочек с чаем. Снял с него одну из верхних, прочитал надпись на ней:
– «Взрыв самбука».
И взглянул на меня, ожидая комментария.
– Пикантный, – сообщил я.
Он вернул коробочку назад.
– А вы меня не узнали, верно?
Я жестом показал, что нет, не узнал.
– Даю намек, – сказал он. – Готовы? Значит, так: недостаточно делать то, что было бы достойным нравственно и отвечало закону; деяние должно совершаться во имя закона. – Он улыбнулся: – Соображения имеются?
Появился Зителли:
– Вижу, вечеринку перенесли сюда?
– Э-э… – выдавил я.
– Итак, ваш ответ? – спросил Коннерни.
Я покачал головой.
– «Кант и Идеал Просвещения». – И он ткнул в меня пальцем: – Вы были моим АП.
К Зителли:
– Он был моим АП.
– Что такое АП? [29] – поинтересовался Зителли.
– То, что ваши люди называют «задрот».
– Наши люди?
– Немытое большинство, оно же простой народ.
– Вот же типчик… Семнадцать лет проработал в полиции, а более наглого ублюдка я не встречал.
– Ха-ха, – выдавил я.
– Совсем меня не помните? – спросил Коннерни.
– А ко… э-э. Когда…
– Первый семестр моего последнего курса. Стало быть, осень две тысячи второго.
– Я… Простите. За многие годы у меня было столько студентов, что…
– Да ничего страшного, – сказал Зителли. – Не все же такие, как он – жутко памятливый, здоровенный рыжий ирландец с крошечным пенисом.
Коннерни хохотнул.
– Ха-ха-ха, – поддержал его я.
– Он был хорошим преподавателем? – спросил Зителли.
– О да, – сказал Коннерни. – Отличным. И группа у нас была отличная. Мелицки вот жалко.
– Да, – сказал я и, почувствовав, что следует что-то добавить, спросил: – Так вы учились на философском?
– На социологическом.
– Это на котором в карте мира разбираться учат? – спросил Зителли.
– Только не в Гарварде.
– Ах-ах-ах, – произнес Зителли. – Ну извините.
– Ха, – произнес я. – Ха-ха.
Зителли спросил у Коннерни, поставил ли я ему пятерку.
– Четыре с плюсом, – ответил Коннерни.
И улыбнулся мне.
Засвиристел чайник. Когда мы вернулись в гостиную, Зителли протянул мне конверт. С мгновение я поколебался, как будто, отказавшись принять его, опроверг бы тем самым все, что говорится в нем на мой счет. Однако принял и приподнял клапан. В конверте лежала ксерокопия диссертации Альмы.
– Оригинал верну, как только смогу, – сказал Зителли. – Я подумал, что пока вам сможет пригодиться и это.
– Спасибо…
– Да не за что. И простите, что мы явились без предупреждения. Просто были по соседству, и, ну, я понимаю, как странно это выглядит, но мне пришло в голову – может, вы покажете моему другу библиотеку, если это не слишком неудобно? Он в таких вещах разбирается. Вы не против? Несколько минут, не больше.
– Идите за мной, – сказал я.
Я прошелся там по каждому квадратному дюйму раз десять, самое малое. И у меня не было никаких оснований предполагать, что эти двое пришли сюда по причинам, отличным от простого житейского любопытства. Я постарался – думаю, небезуспешно – изобразить безразличие собственника. И тем не менее такого страха, какого я натерпелся в те двадцать пять минут, мне испытывать еще не приходилось. Впрочем, то, что делало происходящее столь изматывающим нервы, одновременно позволяло мне сохранять видимость спокойствия, а именно абсурдность всей ситуации: парочка детективов из отдела убийств разгуливает по комнате, которая совсем недавно служила временным моргом. На свой манер, это было невероятно смешно, и, пока они ошеломленно прохаживались по библиотеке, я давил в себе приступы хихиканья.
– Иисусе, – пробормотал Коннерни, большая ступня которого утвердилась в точности там, где недавно покоилась голова Дакианы.
Я стоял у глобуса, лениво покручивая его.
– Красивая вещь.
– Что да, то да.
Зителли улыбнулся мне, словно говоря: «Вы верите этому субчику?»
Я тоже выдавил улыбку, на самом деле ожидая его замечаний по поводу замены ковра, исчезнувших кресел…
– А что случилось с вашим другом? – спросил он.
Пол ушел из-под моих ног. Игра закончена. Все-таки осмотр библиотеки был лишь предлогом, а теперь над моей головой занесли топор. «С вашим другом». Ха-ха-ха. Коннерни еще делал вид, что осматривается, но я понимал: если я рванусь к двери, он меня перехватит. Все должно было произойти здесь, произойти сейчас, и мне оставалось только одно. Сдаться.
– С другом, – повторил я.
– Ну, помните… – И Зителли провел пальцем по верхней губе.
Молчание.
– Моя девушка попросила убрать его, – сказал я. – Он ее пугает.
– Вы это о ком? – поинтересовался Коннерни.
– О Ницше, – пробормотал я.
– А. – Он закрыл глаза. – «Сострадание в человеке познания почти так же смешно, как нежные руки у циклопа» [30].
Зителли усмехнулся.
– Гарвардцы, – сказал он. – Членоголовые.
Я проводил их до выхода, они рассыпались в благодарностях, клянясь, что больше ни разу меня не побеспокоят, – вексель, в возможности обмена которого на наличные я немедленно усомнился.
Я вытащил полу-Ницше из-за громоздившихся в стенном шкафу кабинета картотечных ящиков, за которые засунул его. Я был тогда слишком не в себе, чтобы сообразить, что и его стоит почистить, в результате залившая Ницше кровь запеклась крупинками ржавчины. Имелось и пятно побольше, залепившее, точно катаракта, единственный глаз философа. Я поскреб пятно, и ноготь мой стал оранжевым. Зеленая бархатная подстилка почернела. Я отодрал ее, смял и утопил в унитазе.
«Гугл» предложил удалить ржавчину с чугуна посредством моющего средства и сырой картошки. Я приобрел в магазине и то и другое. Сидя за кухонным столом, разрезал картофелину, капал жидкое мыло на ее мягкую плоть и протирал ею подставку для книг, пока картофелина не чернела. Срезав загрязненный слой, начинал все заново. Полицейские пришли, ушли и ни слова мне не сказали. Однако меня не одурачишь. Что-то у них затевается. Должно затеваться. Потому что стоит поверить в то, что мир может прикончить тебя, – и ты не только сживаешься с этой верой, но начинаешь питаться ею. Я срезал с картофелины еще один слой. Через несколько минут от ржавчины не осталось и следа. Мой друг, так назвал его полицейский. Мой друг выглядел прекрасно.
Глава двадцать четвертая
В трубке стоял какой-то шум, Ясмина рыдала, поэтому слова ее я разбирал с трудом.
– Ты откуда звонишь? – спросил я. – Не из аэропорта?
– Да, у меня ночной рейс. Вылетаю в пять тридцать.
– Я думал, ты только в среду вернешься.
– Я обменяла билет. Все кончено, Джозеф. Я рассказала о нас Педраму.
Если она ожидала, что я испущу победный клич, то ощутила, надо думать, разочарование. Все, что я смог выдавить, это:
– Правда?
– Пришлось. Я больше не могла это выносить.
Она начала описывать посвященный помолвке прием: гостей, под завязку набивших мясной ресторан в Беверли-Хиллз; мерцающие блюда с фруктами, виноградом, ананасами и дынями; Педрама, по-хозяйски крепко придерживавшего ее пальцами за плечо, отчего она почувствовала себя испорченной девочкой, которую лучше далеко от себя не отпускать. Когда же будущий муж начал, как полагается, рассказывать о ней гостям, она не услышала ни слова о полученном ею образовании, о том, какой она человек, Педрам говорил только о ее безупречном воспитании, безукоризненной истории ее семьи и о ее красоте, главным образом о красоте.
Прервавшись, она высморкалась.


























