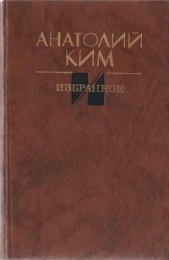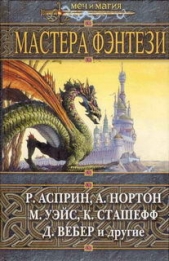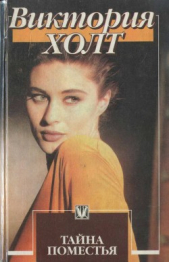Ранняя печаль

Ранняя печаль читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но Ницца, запавшая ему в душу в полупустом зале Дворца железнодорожников, долго будоражила воображение. Однажды, годы спустя, в Ялте, среди бурной субтропической зелени, он увидел броскую рекламу на огненно красном щите: "Посетите Ниццу!" Троллейбус несся стремительно, и он не успел разглядеть чуть ниже еще одно слово -- "ресторан", и три дня подряд, пока вновь не наткнулся на рекламное объявление, Ницца не шла у него из головы.
"Ницца" оказалась обыкновенной "стекляшкой" с бетонными полами и отличалась от подобных ей заведений тем, что числилась вечерним рестораном с программой варьете. Чтобы скрыть бедность и убожество зала, стекло изнутри задрапировали вишневого цвета занавесями, -- наверное, чтобы тем, кто проходил мимо "Ниццы", казалось, что там протекает невероятно шикарная жизнь.
От неприкрытой бедности зал с пластиковыми обшарпанными столами и железными колченогими стульями спасал лишь полумрак и умелое, с долей фантазии продуманное освещение эстрады, где выступало наспех сколоченное варьете и восседал небольшой оркестрик - музыканты в соломенных шляпах-канотье. Тут шли в ход и елочная мишура, и часто менявшиеся рисованные задники сцены, и светящиеся, кружащиеся зеркальные шары, висевшие и над залом, и над сценой -- они, видимо, должны были означать причастность к какой-то веселой роскошной жизни, бурлящей в сезон на известных морских курортах.
Рушан видел и скудность убранства зала, и убожество доморощенного варьете. Конечно, "стекляшка" с претенциозным названием "Ницца" не могла иметь ничего общего с той прекрасной Ниццей, которой он грезил долгие годы, и возвращался он оттуда в полночь по слабо освещенным улицам Ялты расстроенный: ему казалось, что его в очередной раз обманули.
"Почему у нас кругом пошлость, безвкусица, бедность, которую не в силах скрасить ни темнота, ни умелое освещение?" -- с тоской думал он, шагая по ночным улицам города, и световая реклама "Ялта -- жемчужина курортов мира" -- воспринималась как насмешка, издевательство...
Листая, как страницы книги, отшумевшие годы, вспоминая друзей, Рушан как бы не решался приблизиться к себе, хотя понимал, что все его воспоминания мало чего стоят без откровений о себе, без собственной фотографии на фоне времени. Наверное, его жизнь по-иному осветит события, о которых он хотел бы рассказать. Хотя рассказать - кому? Но это билось в нем и не давало покоя... И он вновь и вновь возвращался назад, во вторую половину пятидесятых, в заносимый песками из великих казахских степей провинциальный Актюбинск, чтобы еще не раз мысленно пройтись или же постоять под окнами дома на улице 1905 года, где жила девочка с голубыми бантами, которую он однажды встретил у "Железки" с нотной папкой в руке и, как зачарованный, пошел вслед за ней. Порою ему кажется, что он до сих пор шагает за нею...
Вспоминать ему о ней легко, она часто приходит к нему в снах. Ему снится шум, запахи давно ушедших лет, их окружает музыка и быт того времени, в снах он вновь приходит в парки и кинотеатры своей молодости. Бродвей в час пик, школьные балы и танцы в "Железке"... И повсюду их сопровождают давно забытые ритмы и мелодии.
Его сны -- своеобразные ретро-фильмы, где сам он -- в главной роли. с собственным участием. Когда ему тяжело, тоска одолевает беспричинно, он заклинает кого-то свыше, властвующего над нашими судьбами: "Пусть приснится моя молодость!" А молодость -- это любовь.
Прекрасные сны-фильмы, где через тридцать лет можно разглядеть то, что не удалось увидеть в свое время. Правда, ни один из них не получается досмотреть до конца, они, как в детективном сериале, обрываются на самом интересном месте, и продолжения, как ни заклинай, не бывает. Эти сны-фильмы -- одноразовые и для единственного зрителя, и после них очень трудно вписаться в повседневную жизнь. Но ни за что на свете Рушан не отказался бы от своих сновидений.
Когда-то друзья, беззлобно посмеиваясь над его безответной любовью к девочке из соседней железнодорожной школы, говорили: "Не грусти, первая любовь -- как корь, переболеешь, встретишь другую и забудешь свою гордую пианистку". Сегодня, считай, жизнь прожита, а он ее не забыл, впрочем, он и тогда чувствовал, что это всерьез и надолго.
Когда в прорабской среди коллег возникают разговоры о первых увлечениях своих детей, которые родители не воспринимают всерьез, у Рушана по лицу пробегает грустная улыбка. Он не вмешивается в такого рода диспуты -- кому нужен его душевный опыт? Да и глядя на него, заезженного жизнью одинокого прораба, разве можно предположить, что и его когда-то одолевали страсти, что и он когда-то чувствовал в себе волшебный огонь обжигающей любви, и что воспоминания о ней -- самое дорогое, что осталось ему, ими он и жив.
"Воспоминания -- единственный рай, откуда нас невозможно изгнать", --вычитал он где-то и запомнил на всю жизнь.
Возвращаясь памятью к девочке с нотной папкой в руках, он мучился сознанием того, что заглянувший ненароком в эту его ненаписанную "книгу" мог бы резонно спросить: "Разве ты не любил Глорию? А как же Светланка Резникова? Или Ниночка Новова? Наконец, Валя Домарова?.." Рушан, привыкший отвечать за свою поступки и никогда не прятавшийся за словеса и чужие спины, сникал от этого незаданного вопроса. Может, потому он и не спешил откровенничать о себе?
Наверное, человек более тонкий, чем прораб, -- художник, например, писатель или артист, -- легко разобрался бы в своих симпатиях, тем более давних, ныне ни к чему не обязывающих, но для Рушана это стало непреодолимой преградой: он не хотел унижать в воспоминаниях ни себя, ни своих любимых, ни тех привязанностей, которыми дорожил. Поэтому он и затруднялся заполнять страницы своей "книги" событиями личной жизни, где каждой из его подруг нашлось достойное место. И вдруг он нашел ход к познанию себя, того давнего, и всех своих привязанностей.
В одной мемуарной книге, совершенно случайно, попались ему на глаза страницы о Жане Кокто. Они-то и дали ключ к пониманию давнишних событий. Оказывается, после смерти писателя биографы обнаружили четыре письма, полных любви, нежности, написанных перед отправкой на фронт, -- послания эти сравнивают с образцами любовной лирики. Но... все письма были написаны словно под копирку, хоть и адресованы четырем разным женщинам. И что еще более странно, ни одна из этих прекрасных дам, проживших долгую и счастливую жизнь, позже, узнав истину, не только не отказалась от "своего" письма, но и настаивала, что содержание адресованного ей признания отражает суть ее истинных отношений с Кокто...
Дасаев, конечно, не француз Кокто, и прямой аналогии здесь не проводил, но пытаясь понять известного драматурга и его поклонниц, столь рьяно отстаивающих приоритет на его любовное послание, он пришел к разгадке некоторых давних событий.
Два коротких, но бурных "романа" -- со Светланкой Резниковой и Ниночкой Нововой, -- кстати, одноклассницами, входившими в одну недоступную компанию, хорошо известную в их городе, -- случились в последние полгода, когда Рушан учился на четвертом курсе техникума и уже корпел нам дипломным проектом. Сегодня он понимает, что дважды "пришелся ко двору", или оказался "кстати" в каких-то их девичьих интригах, до конца не ясных и поныне. Знает лишь одно: они не расставляли ему специально ловушек, просто он подвернулся случайно и как нельзя лучше подходил для задуманной ими роли. Но в том-то и суть: обе они не ожидали, что задуманная легкомысленная затея заденет струны и их сердец и, как выяснится позже, тоже обожжет надолго, -- теперь-то Рушан знал это.
Конечно, он мог бы и не вспоминать об этих "романах", отнести их к разряду легкомысленных юношеских увлечений. Тем более влюбиться за полгода дважды -- все это выглядело несерьезным, недостойным даже упоминания в разговоре о любви. Однако сроки тут ни при чем, в серьезной классической литературе он встречал примеры, когда дни и даже часы многое значили для людей, определяли судьбу или на всю жизнь становились духовной опорой. Был и более веский аргумент -- на всем стоит тавро: "Проверено временем".