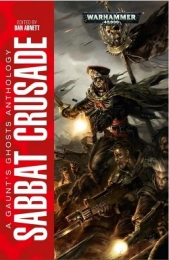Нерв(Смерть на ипподроме)

Нерв(Смерть на ипподроме) читать книгу онлайн
Выясняя обстоятельства загадочного самоубийства своего приятеля, жокей Роберт Финн сталкивается с весьма странной полосой роковых случайностей и совпадений, ломающих карьеры его перспективным коллегам. Финн решает провести частное расследование, чтобы установить, к кому сходятся нити незримого заговора.
Один из самых динамичных романов знаменитого автора детективов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я кивнул.
Он бросил на меня изучающий взгляд, в котором первый раз недоумение и сомнение было смешано с жалостью.
Невыносимо.
– Думаю, сегодня после скачек я поеду в Кенсингтон, – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
– Очень хорошо, – согласился он, по-видимому, с облегчением от того, что ему не предстояло удручающее совместное возвращение домой. – Мне действительно очень жаль, Роб.
– Да, – согласился я. – Знаю.
Я понес седло в весовую, остро чувствуя взгляды, которые сопровождали меня. Когда я вошел, в раздевалке смолкли все разговоры и повисло тягостное молчание. Я направился к вешалке, положил седло на скамейку и стал снимать жокейскую форму. Я посмотрел на лица, повернутые ко мне, на одних прочел любопытство, на некоторых враждебность, на других сочувствие и на одном или двух удовольствие. Никакого презрения; в раздевалке все испытывали одно чувство: «слава богу, что это не я», и для презрения места не было.
Снова началась обычная болтовня, но со мной никто не заговаривал. Они не знали, что мне сказать. И я тоже не знал.
Во мне было не больше и не меньше смелости, чем всегда. Ведь невозможно, в смятении размышлял я, подсознательно бояться, избегать падения, не думая об этом, особенно для человека, который всю жизнь так высоко ценил риск. Три недели назад я бы расхохотался, если бы мне пришла в голову такая мысль. Но от сокрушительного факта никуда не уйдешь: только девять из двадцати восьми лошадей, с которыми я работал после того, как упал на голову, выступили более-менее прилично. Их готовили разные тренеры, и они принадлежали разным владельцам, а со мной все вели себя одинаково. Лошадей было слишком много, чтобы их вялость была простым совпадением, но, с другой стороны, те, которых у меня забрали, выступили хорошо.
Я кружился в путанице бесплодных мыслей и безнадежной статистики, чувствуя, что рушатся небеса. Я переоделся, причесал волосы и удивился, увидев в зеркале, что выгляжу как обычно.
Я вышел из здания, и, казалось, никто не намерен разговаривать со мной, никто, за исключением потрепанного хорька, который работал, я знал, для незначительной спортивной газеты.
Он стоял с Джоном Боллертоном, но когда заметил меня, направился прямо навстречу.
– О, Финн, – воскликнул он, вытаскивая из кармана блокнот и карандаш и поглядывая на меня с хитрой, злобной улыбкой, – могу я получить список лошадей, на которых вы завтра будете участвовать в скачках? И на следующей неделе?
Я посмотрел на Боллертона. Его тяжелое лицо светилось самодовольным триумфом. Огромным усилием я подавил ярость и скучающим голосом ответил журналисту:
– Спросите у мистера Эксминстера. – Он выглядел разочарованным, но он не знал, как близко к его лицу был мой кулак, просто у меня хватило здравого смысла понять, что швырнуть его черту на рога – худшее из того, что я мог бы сделать.
Я прошел мимо него, лопаясь от злости, но день для меня еще не кончился, совсем не кончился. Корин намеренно попался мне на пути, он остановился и сказал:
– Вы, наверно, видели это? – Он держал в руке газету, для которой писал потрепанный хорек.
– Нет, – ответил я. – И не хочу видеть. Корин хитро улыбнулся, наслаждаясь ситуацией.
– Я считаю, вам нужно подать в суд. Все так думают. Когда вы прочтете, вы тоже захотите подать на них в суд. Нельзя игнорировать такое, иначе все будут думать…
– Каждый имеет право думать, черт возьми, что ему нравится, – грубо перебил я, пытаясь обойти его.
– Прочтите, – настаивал Корин, поднося листок к моим глазам. – Уже все прочли.
Против воли я начал читать:
"Задумывался ли кто – нибудь, почему один человек бывает храбрым, а другой трусливым? Или почему человек храбр в одном случае и труслив в другом?
Может, все дело в гормонах? Может, ушиб головы способен нарушить химический обмен, который определяет мужество? Кто знает? Кто знает?
Жокей стипль – чеза, потерявший после падения нерв, – жалкое зрелище. В этом могли убедиться любители скачек. Но если иногда такое состояние вызывает глубокое сочувствие, потому что человек ничего не может с собой поделать, то в других случаях каждый имеет право спросить у жокея: правильно ли он поступает, если продолжает участвовать в скачках и выпрашивает у владельцев лошадей?
Публика требует за свои деньги полноценного зрелища. Если жокей не может обеспечить ей такого зрелища, потому что он боится травмы, не значит ли это, что он получает гонорар нечестным путем?
Но, конечно, это вопрос только времени, в конце концов владельцы и тренеры откажутся от такого человека и вынудят его уйти в отставку, защищая интересы публики, чтобы ей не приходилось выбрасывать деньги на ветер.
И это будет справедливо!"
Я вернул Корину газету и попытался расслабить болезненную судорогу, сводившую мне челюсть.
– Я не могу подать на них в суд, – заметил я. – Они не упомянули моего имени.
Казалось, он не удивился, и я тотчас же понял, что он все знал заранее. Он просто хотел насладиться, наблюдая за тем, как я читаю, и в его глазах все еще мелькала очень мерзкая улыбка.
– Что я сделал вам, Корин, – спросил я, – почему вы так ведете себя со мной?
Он отпрянул назад и тихо пробормотал:
– Мм… ничего…
– Тогда мне жаль вас, – холодно проговорил я. – Жаль вашу посредственную, трусливую, мелкую душу.„
– Трусливую? – воскликнул он, вздрагивая и краснея. – Кто вы, чтобы называть кого-то трусливым? Смешно слышать такое от того, кто сам трус. Подождите, все узнают… Подождите, я расскажу…
Но я не стал ждать. С меня было достаточно, и даже больше чем достаточно. Я поехал домой в Кенсингтон в таком глубоком и ужасном отчаянии, что даже не надеялся жить дальше.
В квартире никого не было, и удивительно, но царил полный порядок. Я сделал вывод, что семья уехала. Кухня подтвердила мой вывод. Холодильник зиял пустотой: ни еды, ни молока, ни в хлебнице хлеба, ни в вазе фруктов.
Вернувшись в безмолвную гостиную, я достал из буфета почти полную бутылку виски и лег, вытянувшись на диване. Я открыл бутылку и сделал два больших глотка. Спирт резко обжег мне десны и вызвал судорогу в пустом желудке. Я вставил пробку и поставил бутылку на пол рядом с диваном. Какой смысл напиваться, подумал я, утром будет еще хуже. Конечно, я могу быть пьяным несколько дней, но в конце концов от этого не станет лучше. Мне вообще уже не будет лучше. Все кончено. Все разбито. Все ушло.
Я провел много времени, разглядывая руки. Руки. Воздействие, какое они оказывали на лошадей, всю мою взрослую жизнь давало мне средства к существованию. Они выглядели точно так же, как всегда. Нервы и мускулы, сила и чувствительность – ничего не изменилось. Но память о последних двадцати восьми лошадях отрицала этот очевидный факт. Память тяжелая, обременительная, неуступчивая.
Я не умел ничего другого – только работать с лошадьми – и не хотел ничего другого. Лучше всего я чувствовал себя на спине у лошади. Седло для меня что море для рыбы, в нем естественно и легко. А седло для скачек? Я задержал дыхание, и мурашки побежали по спине. Для такого седла, мелькнула унылая мысль, я не гожусь.
Мало хотеть участвовать в скачках, для этого, как и для остального, надо иметь талант и силу. И я столкнулся с открытием, что я недостаточно хорош для скачек, что я никогда не стану достаточно хорошим, чтобы твердо удерживать позицию, какую почти занял. От моей веры в себя остались жалкие лоскутки.
А что в будущем? Я мог на следующей неделе вернуться и работать с одной или двумя лошадьми Джеймса, если он еще позволит мне, и, возможно, даже на Темплейте за Зимний кубок. Но я больше не надеялся и не ожидал, что смогу работать хорошо, и меня сотрясала дрожь от перспективы возвращаться со скачек, чувствуя все эти взгляды и слушая оскорбления. Опять начать новую жизнь? Но чем заниматься в этой новой жизни?
Быть пастухом в двадцать лет еще годилось для меня, но вряд ли я захочу быть пастухом в тридцать, в сорок или в пятьдесят. И кроме того, теперь я не могу уехать, потому что, куда бы я ни удрал, всюду со мной будет знание того, что я полностью провалился и что мне надо выкарабкиваться. И сильно постараться для этого.