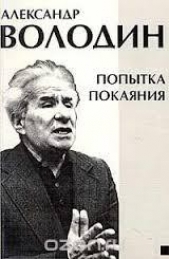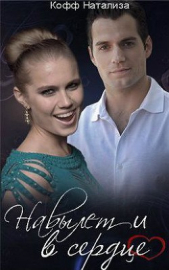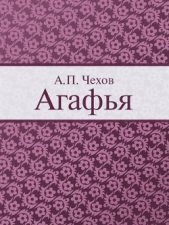Повести

Повести читать книгу онлайн
Повести народного писателя Бурятии Исая Калашникова, вошедшие в сборник, объединены темой долга, темой служения людям.
В остросюжетном «Расследовании» ведется рассказ о преступлении, совершенном в одном из прибайкальских поселков. Но не детектив является здесь главным. Автор исследует психологию преступника, показывает, как замаскированная подлость, хитрость оборачиваются трагедией, стоят жизни ни в чем не повинным людям. Интересен характер следователя Зыкова, одерживающего победу в психологической схватке с преступником.
Повесть «Через топи» посвящена воспитанию молодого человека, вынужденно оказавшегося оторванным от людей в тайге. Писатель показывает, как нерешительный, инфантильный юноша, преодолевая трудности, становится мужественным и ответственным человеком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уж не хотите ли вы сказать, что браконьерство вам приписали? — спросил Зыков.
— Приписали — само собой. Не в том, однако, гвоздь. Сам я, пентюх недоделанный, своей рукой все подписал. В жизнь себе не прощу!
Какая-то капля тяжелой его злости излилась с этими словами. Лицо Григорьева на минуту ожило, в глазах появился горячий отблеск.
— Как же это случилось?
— Все равно не поверите. Другим рассказывал, говорят: анекдот.
— Анекдоты тоже разные бывают. Встречаются и поучительные.
— Ну ладно, расскажу. Только тут двумя словами не обойдешься.
— Зачем в двух словах — расскажите, как оно и было.
— Участки у нас, соболевщиков, далеко от дома. Вертолетом забрасывают. Сезон охоты полтора-два месяца. Ну вот, в позапрошлом году высадился я в тайге, сложил в зимовье припасы, продукты. Сам налегке подался к другим зимовьям. Всего их на моем участке четыре. Обыкновенно весь сезон кочуешь от одного к другому, ставишь и проверяешь капканы, попутно добываешь рябчиков на приманку… Через несколько дней возвращаюсь к своему первому зимовью. А в нем все разграблено. Шатун, будь он проклят, забрался. Все мешки распотрошил, что мог сожрать — сожрал, остальное раскидал, истоптал, с землей смешал. Словом, оголодил меня — ни хлеба, ни соли, ни чая. Податься домой — сезон, считай, пропал. Сходить к кому-нибудь из ребят? Каждый, конечно, поделится всем, что есть. Но каждый берет только для себя, на раззяв, каким я оказался, не рассчитывает. Перебьюсь, думаю. Добуду мяса — проживу. На моем участке обычно до больших снегопадов держались изюбры. В том году, как назло, снег выпал рано, изюбры спустились вниз. Делать нечего, собрался и за ними двинулся. В дороге меня пурга прихватила. Когда харчи есть, любая пурга не страшна, пересидел в затишке, хоть день, хоть два — иди дальше. А мне голод сидеть на месте не дает. И знаю, что в пургу почти невозможно добыть зверя или птицу — иду-таки. Где иду, куда иду — сам не знаю. Пес мой обессилел, язык вывалил, еле тащится. На третий день перед потемками снег идти перестал, ветер поутих. Спускаюсь в какую-то падь, вижу, на косогоре кормится сохатый. И совсем близко. Свалил его с первого выстрела. Собака моя от радости про усталость забыла — прыгает, взвизгивает, норовит в лицо лизнуть… Ну, переночевал там же. На рассвете слышу: собака поблизости лает. Моя ей откликается. Смотрю, мчится чей-то пес. Подбежал. Тимохи Павзина кобель. Стало быть, вон куда я вышел… Пурга совсем угомонилась. Бело кругом, тихо. Прошел я всего-то с километр, вижу — над зимовейкой дымок вьется. Мне от радости хочется бежать наперегонки с собаками. Заваливаю в зимовье вместе с псами. Тимоха, а с ним Степан Миньков, только, видимо, поднялись, у печки завтрак готовили. Что Степка здесь — меня не удивило. Тимохин участок прилегает вплотную к заказнику. Раньше на этом участке охотился старик один, Куприян Гаврилович. Степка его застукал в заказнике — старик убил там изюбра, участок у Куприяна Гавриловича отобрали и отдали Тимохе. Да-а… Переступил я, значит, порог. Тимоха рот разинул, а Степка ко мне. Откуда? Как? Что случилось? Помогает снять котомку, а сам, замечаю, украдкой что-то маячит рукой Тимохе. А Тимоха боком к стене подался, начал снимать и кидать в угол натянутые на распялки шкурки соболей. Глазам своим не верю — четырнадцать соболей! Я только двух успел добыть, а у него уже четырнадцать. Сезон едва начался, а Тимоха уже и домой может подаваться. Такой фарт редко выпадает. Видать, проходной соболь шел через Тимохин участок. Но, думаю, с другой стороны, не должен проходной валить так густо. Может, все дело в заказнике. Соболя в нем никто не тревожит, он размножается, постепенно расходится по ближним местам. Добро, думаю, если так, другие участки тоже станут богаче. А Степан тем временем все что-то выспрашивает и сам говорит без умолку. Такой ласковый, обходительный, только глаза острые, как шилья, так насквозь и прокалывают. Это уже позднее я вспомнил, что глаза у него были как шилья. И что он маячил Тимохе. А тогда был рад теплу, встрече с людьми, горячему чаю, зачерствевшему хлебу. К тому же Тимоха бутылку спирта открыл. Словом, праздник, какие в тайге выпадают не часто. О соболях — ни слова. Не принято у нас по-бабски любопытничать. И еще подумал, что Тимоха побоялся, как бы я не сглазил его счастье-удачу. Ну, сидим мы за столом. Хорошо на душе. Степка анекдоты травит — мастак на это дело, живот надорвешь. Потом фокус показал. Достал из егерской сумки блокнот, выдрал чистые листочки, заставил нас с Тимохой расписаться. Взял Степан надписанные листочки, дунул, плюнул, махнул руками — листочки чистые с той и с другой стороны. Бросил их в печку. Снова мы расписались. И снова то же самое. Извели весь блокнот. Степан достал бланки протоколов. Тут я уследил, как он все проделывает. Сам попробовал — не вышло, и Степан бумаги не дал, так, говорит, без протоколов меня оставите, попадется нарушитель, оформить будет не на чем. Стали мы прощаться. Тимоха мне выделил сухарей, соли и чая, я взял мяса — сколько унести смог, остальное ему оставил. Степан потянул меня в сторону и повел не совсем для меня понятный разговор. Он начал с того, что видишь, как хорошо получается, когда люди друг за дружку держатся. Все, дескать, можно сделать, если есть настоящие друзья. Я ему отвечаю, что в тайге — все люди друзья, что исстари так ведется, что иначе тут нельзя. Степан усмехнулся. Что, говорит, исстари велось, то давно перевелось, теперь хоть в тайге, хоть где — иное. Вот ты, например, считаешься лучшим охотником. Тебя высоко возносят, и от того ходишь гордый. А я, мол, человек маленький, ничем не замечательный, но шевельну пальцем — и разом слетишь со своей высоты. Так, говорит, теперь жизнь устроена, и умные люди это понимать должны. А мне, говорю, никак не понять, каким таким манером ты можешь со мной или с другим что-то сделать и разговор для чего затеял. А он мне толкует, что, мол, сразу видно: возгордился ты сверх меры и думаешь, что тебе все дозволено. Другой, добудь, как ты, сохатого, по сторонам бы оглядывался, а тебе все нипочем. Чего мне оглядываться, удивился я, если на отстрел есть разрешение. Твое разрешение, говорит, ничего не будет стоить, если я скажу, что сохатого добыл в заказнике. Как, спрашиваю, ты можешь это сделать, если все не так. Могу, говорит, не только сказать, но и доказать… Разговор этот мы вели вроде бы и в шутку. Вернее, я никак не мог уразуметь, всерьез это или просто так, пустая похвальба выпившего человека. Выпил он, правда, самую малость, но ведь человек человеку рознь, у одного со стакана ни в глазу, другому рюмки достаточно. Так и ушел я, ни в чем не разобравшись. Потом и вовсе про этот разговор позабыл. Ладно… Добыл я в тот год двенадцать соболей. Ровно столько, сколько положено. У нас порядок строгий, поймал сколько разрешено, — убирай капканы. Правильный, считаю, порядок. Начни жадничать, через несколько лет шиш — не соболь будет. Возвратился домой. Как и положено, в бане попарился, жена гостей созвала. За столом разговоры про удачи, неудачи. Меня и дернула нелегкая ляпнуть про Тимохин фарт. Через какое-то время встречаю на улице Степку. Он и говорит: «Ты чего это, Семен, языком, треплешь? Зачем наговариваешь на безобидного Тимофея? Где ты увидел у него четырнадцать соболей?» — «В зимовье видел своими глазами». — «Э-э, да ты считать не умеешь, десять их было, Семен, десять». — «Я, — говорю ему, — считать не разучился, и ты мне не заливай». А он мне с усмешкой: «Считать ты разучился. Но я тебя заново выучить могу». Остановился передо мной, руки в карманы, с пяток на носки покачивается — маленький, а посматривает вроде бы свысока. Не стерпел я к себе такого отношения, я ведь, и верно, гордый был. Сказал ему: «В учителя мне не набивайся, рылом не вышел. И самого тебя могу проучить. Вот пойду в контору промхоза и узнаю, сколько твой безобидный Тимоха сдал соболей. А сколько притаил и меж собой поделили — сами расскажете». Сказал, по правде, не подумав, первое, что в голову пришло, но вижу — попал в точку. Степку всего перекосило. Но он тут же справился с собой, сказал, вроде бы меня жалеючи: «Толковал же тебе, что с умом жить надо. А ты — клеветать. Зря стараешься. Подумай — кто ты и кто я? Я службу несу исправно, хапугам и хищникам спуску не даю. Тимоха мне во всем помогает. А ты? Ты браконьер, злостный и бессовестный!» От такого нахальства у меня глаза на лоб полезли. Степан видит это и советует: «Одумайся, Семен, не плюй против ветра. Не одумаешься — пеняй на себя. Протокол, составленный по всей форме, у меня. Помни об этом». И ушел. А я стою — как обалделый. Ах ты, думаю, мозгляк-сопляк, змей подколодный, кого, думаю, ты хочешь на испуг взять. Я же сроду не хищничал, чист перед собою и людьми. Но я слишком плохо знал Степку Минькова. Пошел, словом, доискиваться правды. И доискался. Взяли меня за воротник. Показывают протокол. О том, что я добыл в заказнике сохатого. Твоя, спрашивают, подпись? Смотрю — моя. Точно, моя. Вспомнил про Степкины фокусы. Стал говорить — хохочут: серьезный ты человек, Семен, а изворачиваешься смехотворно. Туда сунусь, сюда — нету мне веры. На Степкиной стороне документ с моей подписью и подпись свидетеля — Тимохи Павзина, на моей только мои слова. И чем больше я добивался справедливости, тем хуже относились ко мне. Стал я и склочником, и клеветником. Я и зазнался, я и оторвался…