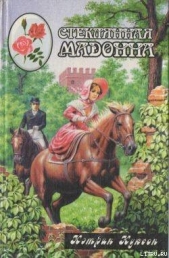Пучина боли

Пучина боли читать книгу онлайн
В маленьком канадском городке Алгонкин-Бей — воплощении провинциальной тишины и спокойствия — учащаются самоубийства. Несчастье не обходит стороной и семью детектива Джона Кардинала: его обожаемая супруга Кэтрин бросается вниз с крыши высотного дома, оставив мужу прощальную записку. Казалось бы, давнее психическое заболевание жены должно было бы подготовить Кардинала к подобному исходу. Но Кардинал не верит, что его нежная и любящая Кэтрин, столько лет мужественно сражавшаяся с болезнью, способна была причинить ему и их дочери Келли такую нестерпимую боль…
Перевод с английского Алексея Капанадзе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пятничным вечером, в марте 1952 года, отец Фредерика Белла умер. В тот момент мальчика не было в его комнате, как не было и матери. Дежурила тогда тетя Мэй. По ее словам (мальчик, по своему обыкновению, подслушивал — и услышал, как она sotto voce [50] рассказывает об этом кому-то по телефону), это было ужаснейшее зрелище. Мистер Белл, который практически не двигался вот уже три недели, вдруг сел в постели, уставившись прямо перед собой тем глазом, который не закрывала повязка. Тетя Мэй так перепугалась, что не смогла пошевельнуться. Ее брат сидел, прямой как палка, и смотрел в пространство — недолго, вряд ли больше минуты.
— А потом он заговорил, — рассказывала она. — Было так, словно кто-то ему только что сообщил дурные вести. «О господи», — сказал он. Нет, в этом совершенно не было ничего религиозного. Мне не верится, что на него вдруг снизошло подобное озарение. Таким тоном говоришь, когда приятели сообщают тебе, что сгорела школа: в его голосе слышался и ужас, и любопытство. «О господи», — сказал он и улегся обратно. Я подошла и попыталась с ним заговорить, но он больше ничего не сказал, он просто глотнул воздух ртом — и это было все. Для Джейн, конечно, это было чудовищно тяжело.
Джейн — так звали его мать; после этого они остались вдвоем. В конце концов она вернула отцовскому кабинету его первоначальное предназначение, обратив его в маленькую гостиную, но ни он, ни она больше туда не заходили. Вскоре финансовые затруднения вынудили их переселиться в значительно более скромное жилище — темную, холодную квартиру, где они и провели следующие десять лет. Однажды Фредерик вернулся домой (он на полставки работал помощником местного аптекаря) и нашел на двери записку, написанную почерком матери:
Фредерик, не входи. Пожалуйста, сходи к тете Мэри, пусть она вызовет врача.
Так он оказался у смертного одра номер два. На сей раз все было сравнительно скоротечно. Мать приняла смертельную дозу снотворного, но ее вырвало. В результате она умирала три дня вместо часа или двух, как, несомненно, планировала. В конце концов снижение мозговой активности привело к тому, что у нее отказали другие органы.
Фредерику пришлось съехать с квартиры и поселиться в подвальной комнате в доме у тети Джозефины. Разбирая бумаги матери, он нашел старый конверт, на котором почерком отца было нацарапано всего одно слово: «Джейн». Открыв его, он прочел:
Дорогая Джейн.
Я намерен покончить с собой и положить конец этому фарсу. Прости, что оставлю после себя беспорядок. Похоже, я просто не в состоянии совладать с собой.
Ни подписи, ни выражения любви, ни единого упоминания об их сыне. Фредерик Белл, восемнадцати лет от роду, сидел в материнской спальне в окружении переполненных сумок и коробок и смотрел на строчки, написанные рукой отца, смотрел долго-долго.
К счастью, он был разумным юношей, и он решил добиться успеха. Ему удалось закончить университет исключительно благодаря стипендиям и подработкам. Благодаря тете Джозефине его расходы на проживание, пока он учился в Университете Сассекса, были минимальны.
С виду он казался спокойным и жизнерадостным, но внутри у него созрело решение в одиночку осуществить одно смелое предприятие. Как он сам для себя сформулировал, он жаждал исцелить слепоту — слепоту медицины по отношению к проблеме суицида. Он потерял обоих родителей, между тем обоих осматривали семейные врачи — и ни отцу, ни матери не поставили диагноз «депрессия», не говоря уж о диагнозе «суицидальные наклонности».
И он решил сам довести лечение этого недуга до совершенства. Его воодушевляли и перспективы медикаментозной терапии, и всевозможные разновидности психотерапевтических бесед. У него не было иных интересов, кроме разве что редких прогулок по близлежащей реке на маленькой лодке. По сути, он просто вошел в один из сентябрьских дней в университетскую библиотеку, а вышел оттуда через несколько лет уже доктором медицины. Еще четыре года в Лондонском университете — и он уже официально аттестованный психиатр, до зубов вооруженный, чтобы выйти на битву с Той Сущностью.
Он практиковал в самых разных местах, и его кураторы всегда отмечали особую склонность молодого врача к пациентам, страдающим депрессией; его диагнозы неизменно были превосходны. Наконец он перешел в Кенсингтонскую клинику, и через полгода ему предложили там постоянную должность. Он отличался целеустремленностью, благоразумием, всегда был в курсе всех новейших фармакологических достижений. Результаты его работы говорили сами за себя.
Его первый год в клинике весь состоял из трудов и успехов. Иногда он находил время мимоходом поухаживать за Дороти Миллер, больничной медсестрой. Она отнеслась к нему как к нежному и забавному букету нервных тиков (время от времени он сутулился и подергивал головой) — и пришла в восхищение. Он же, со своей стороны, находил Дороти привлекательной, и ему нравилось, что она время от времени заставляет его выбраться в кино или куда-нибудь поужинать, настаивая, чтобы он начал наконец жить по-человечески.
А во время второго года своей психиатрической практики он начал испытывать некоторые затруднения. Даже по прошествии тридцати лет он помнил, когда эти перемены впервые по-настоящему на нем сказались. В течение нескольких недель ему становилось все труднее и труднее выслушивать пациентов. Он вдруг вскидывался, обнаружив, что ему задают вопрос, начала которого он не слышал. Или что ему только что рассказали что-то важное, а он никак не отреагировал. Пациент мог сидеть, выжидательно глядя на него, а он понятия не имел, чего тот ждет.
И вот однажды мужчина среднего возраста, состоящий в браке двенадцать лет, отец троих детей, стал рассказывать, какая у него смертельная депрессия, как он каждое утро просыпается со стонами и проклятиями, потому что не в состоянии посмотреть в лицо очередному дню. И Белл ощутил, как в животе у него поднимается волна гнева. Он не мог дать этому объяснение; это казалось каким-то аномальным явлением. Жизнь у него шла хорошо, он получал удовольствие от работы, и его пациент не сказал ничего особенно раздражающего, а между тем он чувствовал, как гнев поднимается откуда-то из живота, заполняя грудь, так что на мгновение ему даже представилось, будто он, доктор Белл, пересекает комнату, хватает пациента за ворот и трясет. Трясет что есть силы.
Тогда это чувство прошло быстро, но затем такие волны гнева стали учащаться. Их провоцировал не только данный пациент, но и все остальные — по крайней мере, те, кто страдал депрессией. Положение ухудшалось, вызывая у него тревогу и грозя лишить его возможности работать; он опасался даже обсуждать это с кем-то из коллег.
Он испытывал все больший дискомфорт, даже просто видя пациентов. Он не в состоянии был слушать, как они себя ненавидят. Не мог слушать, как они с глубочайшим отвращением подводят итоги своей жизни. Не мог слышать о том, что будущее им ничего хорошего не сулит, что им все надоело, что они сами себе надоели. Особенно сами себе. Это было мучительно.
И однажды это случилось, гнев вырвался наружу.
Эдгару Вейлу было тридцать шесть, он был художником-рекламщиком и поступил в клинику после того, как попытался утопиться, но обнаружил, что плавает лучше, чем ему казалось. В его семейном прошлом имелся случай суицида; в его личном настоящем было чувство отчужденности и изоляции. Дополнительный вклад внесли такие факторы, как недавний развод и череда профессиональных неудач. Иными словами, здесь было о чем печалиться.
Ему хотелось писать что-то серьезное. Собственно, он и писал серьезные картины, только никак не мог найти галерею, которая взяла бы его работы, или же добиться того, чтобы хоть единая живая душа за пределами круга его ближайших друзей купила хоть одно его произведение. Он все рассказывал и рассказывал об этом, уставившись в пол и качая головой, и мямлил, что он, мол, не знает, зачем вообще стараться рисовать, что ему, мол, надо выкинуть все свои кисти и полностью от всего этого отказаться. К тому же все это отличнейшим образом отражает его романтическую сторону жизни, продолжал он, вся эта борьба, которая оканчивается ничем.