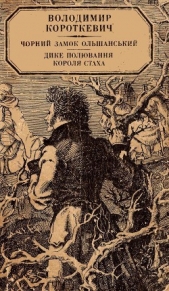Дикая охота короля Стаха. Оружие. Цыганский король. Седая легенда

Дикая охота короля Стаха. Оружие. Цыганский король. Седая легенда читать книгу онлайн
В сборник вошли повести «Дикая охота короля Стаха», «Оружие», «Цыганский король» и «Седая легенда». Завершает книгу, вобравшую в себя произведения В Короткевича на историческую тему, послесловие В.Захарова «Певец седых легенд и народных поверий».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Неплохо, — сказал я, — да ведь это для вылазок, хозяин. А зачем нам их кони? Разве что жрать, если станет голодно? Конечно, это еда для басурмана, но голод не тетка.
— Есть еще около двух сотен дворян.
— Отчаянные и отпетые души, — сказал я, — но опять-таки для боя в широком поле.
Словом, я понял, что стены замка должны защищать мои воины.
— Не нам же камни таскать, пан Кизгайла? Дайте нам на эту работу с полсотни мужиков.
— Нельзя мужиков, — почти вспылил он. — Их вовсе не будет.
Я пожал плечами:
— В чем все-таки дело, хозяин?
— Спрашивать будешь потом. Отвечай, сколько здесь можно продержаться.
— Год, — сухо ответил я, — год я продержусь здесь даже против Сатаниила. Два года я продержался бы здесь с хозяином, который мне доверяет. И я не поручусь даже за неделю обороны, если хозяин не доверяет сам себе.
— Цхаккен, приятель, — сказал он чуть помягче, — я просто не хотел внушить тебе превратного мнения относительно легкости и трудности этой осады.
— Так кто же все-таки идет?
— Хамы идут.
Мне не понравились эти слова. Ведь швейцарцы все были мужиками еще сто лет назад. Но он обидел не моих земляков. Кроме того, он платил деньги. Поэтому я смолчал.
— Хамы идут, — повторил он.
— Это не так уж страшно, — сказал я, слегка покривив душой.
— Ты не видел их в Витебске, — сказал он, — когда там была смута. А я до сих пор помню набат.
— Однако же тридцать лет в этом краю было спокойно.
— А теперь они взяли замок. В Рогачеке.
— Сорок миль по реке отсюда, — улыбнулся я. — Кто поручится, что они пойдут в эту сторону?
— Они пойдут. Я это знаю. У них нет другого пути, кроме того, что ведет через Кистени. Через мои земли.
— И все равно мы отсидимся. Ваши мужики, конечно, мало приятная вещь. Однако это не регулярная армия.
— Это хуже. — Он снова начинал гневаться.
— Почему?
— Потому что сегодня у них есть голова.
Внутри у меня похолодело: черт возьми, это действительно было хуже. Но я знал, что этого человека еще в отрочестве чуть не до смерти напугали зверские рожи, топоры, факелы, труп епископа, который волочили за ноги по улицам, избиение его гвардии. Неумно было бы его пугать. Поэтому я отмахнулся от его слов.
— Глупости, — сказал я, — голова во время войны рискует не меньше ног. Уж на что хитер был шведский король, но и его не минула пуля.
— О Конрад, ты ведь бился с ним, — вдруг загорелся он. — Что это был за человек?
Я улыбнулся про себя. Клянусь косой матери божьей, на этой земле каждый мечтает о славе. Нигде не читают и не расспрашивают так жадно про Александра, Цезаря и других разбойников. Даже этот, которому сидеть бы дома и плодить детей, человек скорее жестокий, чем мужественный, загорелся, едва потянуло дымом войны.
Я пожал плечами с притворным безразличием:
— Этот голландский мазила Ван Дейк написал портрет шведа, но он не похож. Он на нем чистенький, как мальчик, которого мама ведет в церковь. А тот был здоровенный мужлан, который лаялся мужицкими проклятиями, словно золотарь из Вюрцбурга.
Его снова передернуло при упоминании о мужиках, но я успокоил:
— Даже такая голова ничего не смогла поделать с мужеством неприятеля. Будем биться.
Мы спустились во второй внутренний двор. Здесь, под навесом, висели на стене кирасы, фыркали кони и возле костров сидели кирасиры. На каменных плитах двора кое-где дымился свежий навоз. Худой мужичонка в свитке убирал его лениво и неуклюже.
Хозяин, видимо, нашел, на ком сорвать гнев.
— Доминик, — сказал он, — если двор будет таким загаженным и утром, я поставлю тебя выше себя.
Я знал это мерзкое выражение. И невольно взглянул на верхний двор, где огромным «покоем» вырисовывалась на синевато-зеленом лунном небе виселица.
— Сделаем, паночек, — сказал Доминик, и я увидел в сумерках его светлые, чуть пригашенные ресницами глаза. Они были необычные, эти глаза.
В Европе я лишь однажды видел такие глаза у мужика под Вольмирштедтом, когда немецкие собратья в кирасах забирали у него сено. Через мгновение он воткнул вилы в бок сержанту. Когда я впервые появился здесь, то ежеминутно опасался такого удара: у них у всех были такие глаза. Но потом успокоился. Это смирный и очень терпеливый народ.
И лишь теперь снова что-то неприятное шевельнулось у меня внутри.
— Я отправил бы этого мужика в родное село, — сказал я.
— Совсем остаться без них нельзя, — раздраженно ответил Кизгайла, — а этот еще и католик. Я должен ему верить.
Я удивился такой наивности и подумал, что человеку, который изменил вере однажды, ничто не помешает изменить и второй раз. Но я не произнес этого вслух, боясь оскорбить хозяина.
Сам хозяин тоже был свежий католик, а жена его, Любка, оставалась православной. Жен незачем принуждать. Да и сам Кизгайла — я уверен в этом — чувствует себя в новом храме наподобие пьяного ландскнехта в обществе святош.
И все же в замке имеется небольшой костел, патроном которого является святой Антоний, и церковь Покрова Матери Божьей. Их разделяет дворец, и из него ведут в храмы две галереи, каждая в свою сторону. Когда дворец сожгут, храмы увидят друг друга и очень удивятся. Впрочем, это не мешает обеим религиям спать на одной подушке…
От этих игривых и, признаюсь, не очень почтительных мыслей мне стало весело. Ну какой из этого человека католик? Он не знает по латыни ни inibus, ни atibus [101]. И хорошо, потому что я тоже знаю, не много больше.
Да и откуда мне знать? Я не поп, я солдат. Я Конрад Цхаккен, и я тридцать лет кровью плачу за свой хлеб.
Широкой деревянной лестницей мы прошли в малый зал замка. В этом малом зале могли бы устроить попойку все мои молодцы, да еще с девками. И никому бы не было тесно.
Шесть больших, как в церкви окон. В них, помимо обычных застекленных переплетов, вделаны еще и витражи. Впрочем, их начали уже вынимать. Без сомнения, для того, чтобы перенести в безопасное место. Поэтому половина зала была в красных, синих и коричневых пятнах, а вторая залита лунным светом.
Гладкий каменный пол, стены, обитые тяжелой тканью, фиолетовой с золотом. Вдоль стен тяжелые и длинные, как гробы, резные сундуки, они же скамьи. Между ними шкафы, нарочно приоткрытые, чтоб была видна золотая и серебряная посуда.
Как быстро они научаются от фальшивых немецких и итальянских купцов, от лживых ихних дворян! Научились и иному, вовсе несообразному: в передней стене — камин! Это при здешних страшных морозах! Да я ни на что на свете не сменяю местной печи.
Во время итальянского похода — а зима была небывало суровая для Ломбардии — мне однажды довелось всю ночь пролязгать зубами у такого камина. Я наполовину зажарился, а наполовину замерз, как пекарь.
Зато я с несомненным удовольствием увидел уже накрытый стол, кресла без спинок возле него, пламя свечей в шести пятисвечниках.
И еще женщину в кресле, в стороне от стола.
Они были совсем не похожи друг на друга, муж и жена. У него сухое желтое, начинающее дрябнуть лицо, безумные и достойные жалости глаза фанатика, волосы до плеч. А она — с нее ангела можно было бы рисовать. Только не больно, знаете ли, доброго ангела. Коса длинная, золотистая, глаза темно-голубые и тоже малость бесноватые, как и у всех местных жителей. Рот розовый, веселый и привлекательный, и весьма приятный для поцелуев.
А сама будто литая: все на месте, что должно быть у женщины, по мнению всякого доброго швейцарца. Я, правда, не знал, какая у нее походка. У здешних женщин походка очень хороша. И еще руки. Такие, как у этой: белые, не худые, с тонкими красивыми пальцами, которые сужаются на конце.
Особенно непохожими супругов делала одежда. К одежде следует приучать не одно поколение. И может, только внуки пана приучатся носить одежду, которую носил он сам. Широкая и очень короткая бархатная безрукавка на куницах. Ярко-красная рубашка, которая плотно обтягивала тело. Кружевной воротник, и из-под него на живот свисала золотая цепочка. На поясе игрушечный кинжальчик. (Боже, да этим людям только дубина и с руки.) И куда ему, черту, с его худыми ногами и утолщенными коленными суставами носить гладкие, в обтяжку, золотистые чулки и мягкие сапожки с длинными носками?