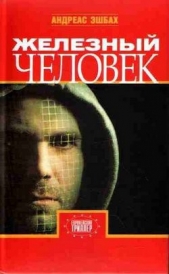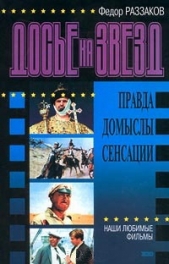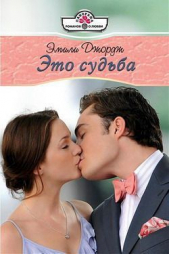Тайна Шампольона

Тайна Шампольона читать книгу онлайн
Отчего Бонапарт так отчаянно жаждал расшифровать древнеегипетскую письменность? Почему так тернист оказался путь Жана Франсуа Шампольона, юного гения, которому удалось разгадать тайну иероглифов? Какого открытия не дождался великий полководец и отчего умер дешифровщик? Что было ведомо египетским фараонам и навеки утеряно?
Два математика и востоковед — преданный соратник Наполеона Морган де Спаг, свободолюбец и фрондер Орфей Форжюри и издатель Фэрос-Ж. Ле Жансем — отправляются с Наполеоном в Египет на поиски души и сути этой таинственной страны. Ученых терзают вопросы — и полвека все трое по крупицам собирают улики, дабы разгадать тайну Наполеона, тайну Шампольона и тайну фараонов. Последний из них узнает истину на смертном одре — и эта истина перевернет жизни тех, кто уже умер, приближается к смерти или будет жить вечно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Добавим это к двум другим знакам. Получаем: Ra + Mice + S = Ramices. А это значит «Ramses»: «Рожденный солнцем».
Таким образом, древнеегипетский использует одновременно знаки изобразительные, символические и фонетические «в одном тексте, в одной фразе и, я бы даже сказал, в одном слове».
Сегир понял, что письменность эта состоит из алфавитных знаков, как «S» (фонетический) или «MS» (слоговый), а также из знаков изобразительных (или идеограмм), как «Re» или «Ra».
Идеограмма — так я написал? Это слово пришло к нам из греческого языка. «Idea» означает «идея», a «gramma» — знак. Идеограмма — знак (картинка), представляющая смысл слова, а не его звучание. Таким образом, имеется в виду понятие и смысл. Но разве в голове у каждого из нас одни и те же мысли, когда мы рисуем дерево или руку? Я представляю рот, когда хочу сказать «улыбка». Но тот, кто сейчас меня читает, может подумать, что я имел в виду глагол «есть».
Змея — это животное, яд или символ греха? Все зависит от обстоятельств, эпохи и даже практикуемой религии. Если я пишу слово «солнечный», что я хочу выразить — тепло или счастье? Любой знак, таким образом, не говорит одно и то же всем на свете, ибо изображение лишено универсальной определенности. Только что мы увидели, как слово «Ramses» является носителем смысла. Оно переводится как «Рожденный солнцем (Re или Ra)». Но можно ли быть уверенным в точном смысле, заложенном в знаки тем, кто их рисовал? Какова доля священного или божественного в слове «Ramses»?
Равная ли значимость у всех этих знаков? В отличие от слогов, составленных из букв, один знак всегда обозначает некую мысль, понятие. Таким образом, «Ra» в слове «Ramses» указывает на божественное. Оно влияет на смысл всего слова, в котором употребляется. Но насколько значимо это влияние? Чтобы это узнать, пришлось бы спросить самого фараона. Поговорить с ним… Этот знак «Re» или «Ra» — носитель оригинальной истории, и его изображение, возможно, содержит понятие, значение коего отличается от изображения. На Розеттском камне была такая фраза: «Сделать так, чтобы (каменный столб) был воздвигнут во (всех) алтарях и во всех храмах». Все зависит от перевода. Он по определению подразумевает некую долю сомнения… Действительно, «сделать так» было написано символами, которые служат для обозначения глагола «давать». Разница существенная. Давать — это препоручать другому заботу о том, чтобы был воздвигнут каменный столб. «Сделать так» содержит понятие распоряжения.
Иногда понятия, иногда звуки… Рамсес — рожденный солнцем. Сколько интерпретаций можно дать этому имени, образованному фразой? Сколько всевозможных понятий скрывается за этими слогами? И действительно, в древнеегипетском языке есть добавочные знаки, которые определяют произношение слова или его смысл, но можно ли быть уверенными, что мы постигли все оттенки тысячелетней письменности фараонов?
Орфей писал, что расшифровка положила конец самым безумным слухам о тайнах в египетских письменах. Парадоксально, но не это ли больше всего разочаровало противников дешифровщика? Не это ли доконало Шампольона? Столько лет безрезультатных поисков, столько обманутых надежд…
Ведь все мы, даже не признаваясь себе, воображали великий день расшифровки. Розеттский камень заговорит, и мы прикоснемся к Небу, расшатаем основания нашего мира, откроем дверь к Слову Божьему… И сколько еще всего!.. Морган прекрасно описал заразную истерию, окружавшую приготовления к экспедиции. Со времен Моцарта и его «Волшебной флейты», я полагаю, ничего не изменилось. В головах засела странная мечта о том, что однажды мы найдем солнечный круг с семью ореолами или нечто другое, что изменит нашу судьбу…. Ведомые Наполеоном, мы надеялись, что письменность фараонов содержит в себе долю божественного и может привести к Вечности. Его отвага стала нашей, когда у подножия пирамид ему вдруг почудилось, будто приобщился к удивительной власти фараонов. 14 сентября 1822 года заставило нас спуститься на землю… Понятия и звуки — это уже много.
Достаточно для людей. Вот почему, без всякого сомнения, Бог хранил молчание. Хотя столь многое мог бы сказать!
Каждый знает, что результаты сильнейшего опьянения всего отчетливее при пробуждении. Это очень тонкий момент. Тело и разум стонут. Все то, что мнилось правдой, становится ложью. Отвага уступает место головокружению. Двойная метаморфоза Сегира — не объясняется ли она подобным образом? Сначала беседа с Наполеоном разожгла его грезы.
Император верил в могущество фараонов и их письменности.
Он также видел, что Сегир может стать светом для будущих веков, и об этом сказал. Для того, кто посвятил свою жизнь Египту, возможно ли обещание прекраснее? Оказывая ему внимание, пророча (и мы тоже), что он станет дешифровщиком, мы все поддерживали его страсть и строили невиданную надежду. Ни на миг не усомнившись в способности младшего брата разгадать тайну иероглифов, Фижак тоже стал частью этого заговора. Как тут не услышать посулов императора, когда все убеждены в величии этой миссии и только и говорят, что о предстоящем успехе? После этой беседы Шампольон преисполнился решимости, как никогда. Вот почему он изменился после 8 марта 1815 года. «Созревший, определившийся», — говорил Орфей. Да — по меньшей мере.
Мои рассуждения, если они справедливы, объясняют также потрясения, что последовали за 14 сентября 1822 года.
Сегир разгадал иероглифы. Иногда понятия, иногда звуки. И не было иной тайны. По крайней мере, ничего такого, что подтвердило бы надежды Наполеона. После выхода из комы опьянение закончилось. Шампольон возвращался к жизни, мало-помалу просыпался. Он не встретил никакой химеры.
В целом, его триумф скрывал огромное и тайное разочарование. Долгие годы он молчал о гипотезе, выдвинутой Наполеоном в тот мартовский день 1815 года. Однако он знал.
Язык фараонов не содержал божественной надежды. Наполеон и Шампольон ошиблись. Их имена никогда больше не объединятся, не образуют эту мечту о вечности, родившуюся в Гренобле.
Достаточно ли этого, чтобы объяснить терзания Шампольона? По моему мнению, да, ибо его собственное открытие и лежало в основе всех его бед. Звуки и понятия… Мне кажется, я объяснил, как трудно переводить смысл изображения, созданного кем-то другим. Рамсес — тот, кто родился от солнца.
И что тут понимать? Шампольон повторял: «Иероглифическая письменность — очень сложная система, одновременно изобразительная, символическая и фонетическая в одном тексте, в одной фразе, я бы даже сказал, в одном слове». Таким образом, чем дальше он двигался на пути своего открытия, тем больше оно убеждало его в том, что остается тайной. «Измученный, опустошенный», — говорил Орфей, и я с ним согласен. Ключ, найденный 14 сентября 1822 года, — прекрасное достижение, но он всего не прояснил и, возможно, никогда не позволит осветить тайный смысл идеограмм, высеченных во времена фараонов. Вот почему Шампольона словно подтачивало изнутри.
Ах! Какая красивая теория… Она совершенна. Ей недоставало лишь того, что ученый, подобный Моргану или Орфею, назвал бы демонстрацией, то есть действием, кое опытным путем могло бы доказать правдивость факта. Следовало терзать эти догадки недоверием. Проверка требовала задать вопросы Сегиру и, по возможности, получить ответы. И разве для меня вопросы — не наилучшее средство движения вперед?..
Да, разумеется. А еще следовало доверять тому, к кому я хотел обратиться. Это зависело от обстоятельств, условий и места. Мне требовалась спокойная встреча с Сегиром, чтобы ничто и никто не беспокоил нас. Но Жан-Франсуа очень редко оставался один. За ним наблюдал Фижак. И любой прямой вопрос мог бы вызвать подозрения. А ведь это я вел расследование!