Сон Сципиона
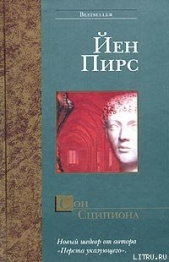
Сон Сципиона читать книгу онлайн
Один роман — и ТРИ детектива, ТРИ истории любви, ТРИ исторических романа.
Три человека пытаются противостоять окружающему безумию…
Один — в эпоху падения Римской империи.
Другой — во время эпидемии Черной Смерти XIV века.
Третий — в годы Второй мировой…
Что объединяет их?
Одно расследование — и один таинственный древний манускрипт…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Точно так же разрыв между Манлием и Сиагрием был слишком велик из-за того, что Манлий относился к своему секретарю как к сыну, а между отцами и сыновьями не может быть подлинной дружбы. И в «Сне» он подчеркнуто исключил подобные отношения из рассмотрения, когда коснулся темы любви. Тут место великого движителя гордо занимал долг. Дети воплощали пожелания своих отцов, обеспечивали продолжение их именам и славе. В подобном представлении не было места ни для чего более мягкого. Именно поэтому его обращение с молодым человеком было таким жестким, не допускавшим никакой близости — ведь Сиагрий был и залогом его будущего, и упреком ему.
Своих детей у Манлия не было, что, возможно, определило многие его поступки и решения. Ведь сумерки культуры, столь ему дорогой, были параллелью исчезновения, угрожавшего ему самому. Христианство, которому он следовал внешне и которое многие его современники приняли по убеждению, не имело силы развеять такие страхи. Когда его имени настанет конец, некому будет приносить жертвы на его могиле, устраивать ежегодные пиры в его память, даровать ему вечность, которой он жаждал, а его новая религия, по его убеждению, не могла ему этого дать.
В ту ночь, когда у его жены случился четвертый выкидыш, от выработанной им самодисциплины и аристократа, и философа не осталось ничего. Он пошел на кладбище и пролил масло на могилу своего отца. Только так мог он попросить прощения за свою неудачу и надвигающийся конец всего их рода. Когда он заснул, то увидел развалившиеся гробницы и низкорожденных, забирающих камни, чтобы строить свои амбары, а вокруг все заросло бурьяном.
Тем не менее он смирился со своей судьбой и не развелся с женой, хотя мог бы легко это сделать, и никто бы его не осудил. Даже и она не была бы сражена, так как происходила из семьи, понимавшей всю важность продолжения рода. Она удалилась бы в женский дом молиться и была бы счастлива. Но он оставил ее у себя, строил планы, чтобы усыновить Сиагрия, и вскоре после этого вернулся к политической деятельности. Он знал, что Сиагрий не даст исчезнуть только его имени, но не сохранит ничего истинно ценного, так как мальчик был добрым, но абсолютно глупым, скучным в беседе и скудным в мыслях, усыновленным потому, что не нашлось никого лучше. Он никогда не читал и за все время, пока оставался на вилле Манлия, ни разу не произнес ни единого сколько-нибудь интересного слова. Ничего, кроме пошлостей, никогда не срывалось с его языка. Никакая избитость, никакая глупость его не останавливали, любое клише заставляло его согласно кивать светловолосой головой, а изящная фраза с глубинным смыслом вызывала только недоумение. Он, бесспорно, очень старался, всегда был рад угодить, нравился его жене, обладал многими достоинствами. Однако Манлий не мог не сравнивать его с тем, каким следовало быть его наследнику, и разительное несходство делало его резким и неоправданно грубым. Сиагрий терпеливо сносил это. Впрочем, у него не было выбора, но тем не менее он оставался в выигрышном положении. Ведь, терпя разочарования Манлия, он получил его имя, а со временем должен был получить все его имущество. Удача ему улыбнулась: подожди Манлий еще несколько лет, и его он не избрал бы, но его ввели в заблуждение льняные волосы мальчика, его искренняя улыбка, и он решил, что красивое лицо указывает на утонченную и благородную душу. В этом заключалась ошибка Манлия: пусть мальчик был и добрым, и честным, и старался все делать так, чтобы угодить Манлию, но он был частицей другого мира и не видел никакой ценности в утонченности и изысканности, составлявших основу основ существа Манлия.
Манлий вернулся к политической жизни не с полным восторгом, ведь он помнил и другие аспекты учения Софии, которые воздействовали на него с большей силой. Ее вечность была иной — поисками завершенности, даже не зная цели, пока она не будет достигнута. Она учила притчами и обсуждениями, как ее отец до нее, используя простейшие формы для подготовки к более сложным идеям. Любимым ее приемом было рассматривать мифы, обсуждать и расчленять их под увеличительным стеклом философии, чтобы отыскивать скрытые в них истины. Однажды Манлий заговорил о Елене, которая влюбилась в Париса, потому что троянский пастух заручился обещанием Афродиты. Конечно, не потребовалось и минуты, чтобы свести всю историю к вздору: божественное не вмешивается в жизнь людей, принимая участие в конкурсах красоты, или, добавила она с улыбкой, разделяя воды моря, или претворяя воду в вино.
— Но нельзя ли увидеть чего-нибудь еще? — заметила она. — Мы заключили, что высшее не вмешивается в существование низшего, но значит ли это, что легенда нелепа и лишена достоинств? Напомню вам, что литература полна подобных сказок. Почему Дидона и Эней полюбили друг друга, что Вергилий тоже приписывает вмешательству богов? Почему Ариадна предает все, что ей дорого, из любви к Тесею?
— Я читал, — сказал Манлий, — что это болезнь, недуг крови, не так ли написал Гиппократ?
Она кивнула.
— Но почему мы заражаемся этой болезнью? То, как влюбленного влечет к любимой, бессонница, потение, потеря рассудка, всеподавляющее желание воссоединиться с кем-то другим, берущее верх над разумным поведением? Болезнь, не спорю. Но нам следует пойти дальше. Почему влечение именно к ней или к нему? Почему не к кому-то другому? Почему только к ней или к нему в тот момент? Я слышала о многих странностях в человеческом поведении, но мне не приходилось слышать про изнемогание от любви к двоим.
И она продолжала, вплетя речь Аристофана в «Пире» о том, что некогда люди были сферами, но боги, карая, рассекли их пополам. И с тех пор они вынуждены искать свои вторые половины и не находят покоя, пока не воссоединятся. И миф об Эре в «Государстве», где люди должны рождаться вновь и вновь, пока их души не узнают, как вознестись на небеса, освободившись из темницы тела. Опять-таки это не следует понимать буквально — ничто, сказала она, не бывает буквальным, — а как аллегорию поисков, каким должна предаться душа, чтобы объять трансцендентное. В этом растворении заключалось бессмертие, которое предлагала София.
Манлий избегал выполнения своего общественного долга столь долго из страха перед тем, как будет его выполнять. Его отец знал о своих врагах, но ничего не предпринимал, пока уже не стало поздно; он был убит теми, кого старался спасти. Манлий знал, что не допустит такой ошибки, и, значит, он окажется перед необходимостью решения и задачей: можно ли поступать неправосудно во имя правосудия? Может ли добродетель проявляться через безжалостность? Он не знал, как будет отвечать на эти вопросы. Он знал только, что его отец ответил на них неверно и тяжко поплатился. Та добродетель, которой он обладал, бессмысленно канула в неудачи. Манлий сделал выводы из его ошибок и ужаснулся тому, что было сокрыто в нем самом.
Что разговор о святой Софии между Оливье де Нуайеном и сиенским художником действительно имел место, это не более чем предположение. Жюльен установил такую возможность на основе больших соответствий между рассказом Оливье в архиве Чеккани и иконографической серией на стенах часовни. Что-то подобное должно было иметь место, и вывод, что Оливье повторил художнику, расписывавшему часовню, легенду, которую изложил в своем письме Чеккани, вполне логичен. К тому времени, когда Юлия Бронсен узнала эти панно настолько близко, что могла бы сама их написать, вывод этот казался ей и Жюльену наиболее вероятным.
Во время круиза она сказала Жюльену, что потенциально она хороший художник, и ее уверенность в себе не была самообманом. К исходу 1930-х годов она обрела такую репутацию, хотя еще не стала особенно известной. Да, действительно, она училась в Париже, в академии Колорасси — круиз по Средиземному морю с отцом знаменовал завершение этой поры ее ученичества и начало периода настоящего постижения того, как стать художником, — тогда в ее жизни мелькнул ранний ученик Матисса, человек, которым она восхищалась, который даже снискал одобрение ее отца. Потом она пошла своей дорогой, а не путем, необходимым для достижения славы, брезгуя связями и контактами, которыми должен обзаводиться художник, чтобы оставить свой след. Кто-то как-то сказал, что богатство погубило ее как художника, и в глубине души она согласилась. Не то чтобы оно ограничивало ее восприятие или воздействовало на то, что она писала, но оно позволяло ей игнорировать владельцев галерей и критиков, которые делают художников великими. Она не обращала на них внимания, они платили ей тем же. Если бы она приложила чуть больше усилий в этом направлении, посмертная репутация, начавшая складываться в шестидесятых годах на основе ее сохранившихся работ, могла бы выкристаллизоваться много раньше.


























