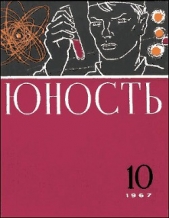Светозары
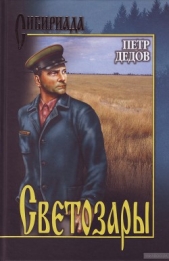
Светозары читать книгу онлайн
Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да всё по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново!
Роман известного сибирского прозаика Петра Павловича Дедова во многом автобиографичен и оттого еще более интересен и достоверен в раскрытии самого духа Сибирской земли.
Книга издана к 75-летию писателя..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А при очередной встрече с Колей и Васей в школе на перемене как-то сам собою возник разговор.
— Вы правда предатели Родины? — напрямую спросил у калмычат Ванька Гайдабура.
— Правда, — потупившись, ответил Коля.
— Мы — предатели, — тихо и покорно повторил Вася.
— И скот прятали, и колодцы закапывали, чтобы уморить советских бойцов?
— Ага.
— А сами вы это видели? — спросил я.
— Нет. Мы не видели, — сказал Коля.
— В нашем селе никто этого не видел, — подтвердил Вася.
— Как же так? Сами не бачили, а говорите! — возмутился Ванька.
— Не мы говорим. Все так говорят, — в Колином голосе прозвучала обреченность. — Большой начальник так сказал, когда нас выселяли из дому. Большой начальник врать не будет… Калмык плохой человек.
Вот и поговори с ними! Это как же надо запугать, под какими угрозами внушить такое?!
Как-то в разговоре у Коли вырвалось:
— Эх, был бы я русский! Родился бы в Сибири!
— У вас плохая Родина? — спросил кто-то из нас. — Там ведь, говорят, такая же степь, как здесь.
— Нет, — Коля упрямо мотнул головой, — наша степь лучше. У нас лесов нет совсем. И даже кустов. Все-все голое. Песок да типчак.
— Потому и лучше?
— Потому и лучше, — уверенно подтвердил Вася.
О посещении калмыцкого жилища мы договорились сразу же рассказать дома взрослым. Нельзя же было все так оставлять, что-то же надо было делать.
— Ах, нечистая сила! Ах ты, дьявол безрогий! — не дослушав мой рассказ, напустилась на меня шебутная бабушка Федора. — Да какой же леший вас надоумил туда итить? Там же зараза всякая! А ну, раздевайся, сымай портки — вшей смотреть буду!
— Да мы только постояли у порога, — оправдывался я, зная по опыту, что слова у бабушки не расходятся с делами.
— То-то, што у порога! — смягчилась бабушка. — Говоришь, и мертвые рядом с живыми на нарах лежат? Брешешь, поди-ка, все? Да это как же можно? Ведь какие онe ни есть — это же люди, твари господни… Это куда же начальство-то смотрит?
Бабушка Федора подняла шум по деревне, и, видать, не одна она, потому что вскоре собралось собрание, на котором решили оставшихся в живых калмыков разобрать по домам.
Не помню уж, как их делили, но нам достался крохотный старичок с рыбьими глазами. Да, да, у него были, как у рыбы, совершенно круглые, белесые и неподвижные глаза.
Он уже не мог ходить, мы с дядей Лешей привезли его из бывшего свинарника на санках, и дядя сразу отнес его на руках в заранее натопленную баню. Он сам его помыл, а шубные клочья, заменявшие одежду старика, прожарил на раскаленной каменке.
Бабушка Федора приготовила поесть из заветных запасов, хранимых ею про самый черный день — на случай чьей-то болезни или — мало ли чего? Помнится, даже бутылку костяники с сахарином достала из подпола.
Сама она старичка и кормила. Дала ложку овсяной каши, блинчик с постным маслом и чайную ложечку костяники. Старичок просил еще, протягивал к бабушке руки. Но она отрезала:
— Будя с тебя. Нельзя с голодухи много — кондрашка хватит.
Старик стал помаленьку поправляться. Застывшие рыбьи глаза его словно бы оттаяли, стали двигаться, и в них появился живой блеск. Правда, он еще сам не поднимался, но разговаривал, смешно коверкая русские слова. К нему иногда приходили Коля с Васей — они жили на дальней улице, у Овчинниковых. Это был их дедушка, а родителей у них не было. Старичок сильно радовался, пытался заговорить с ними по-своему, но они не желали и говорили только по-русски.
— Ай, плохой ребятишки, — укоризненно качал головой старик, сидя на припечке в постели, — родной язык не любит… Себя не любит? Бей себя, бей! На палка, — и он протягивал ребятишкам какой-нибудь предмет, например, ложку.
Видимо, так он пытался воздействовать на вышедших из повиновении внуков, внушить им патриотические чувства.
Как-то я задал старику болезненно волнующий меня вопрос:
— Дедушка, правду говорят, что вы, калмыки, — предатели?
Старик затравленно глянул на меня, но тут же успокоился, поманил пальцем, чтобы я подошел поближе, и тихо сказал:
— Запомнишь? Да, у калмыка был предатель. У русского тоже был маленько предатель. У казаха был, у киргыза был, у немца был предатель. Маленько… Но весь народ — не предатель… Народ… хороший, вот тако-ой! — старик широко развел руки, видимо, не находя слов.
С калмычатами я скоро подружился. Они оказались славными парнишками: простодушными, ненавязчивыми и всегда верными своему слову. Они оба знали наизусть «Памятник» Пушкина, где поэт выражает надежду, что его будет помнить и чтить на Руси, кроме всех других пародов, «и друг степей — калмык». Они знали, что Пушкин некогда посетил их степи, и на полном серьезе утверждали, будто он там был женат на самой красивой калмычке, и что поэтому у них на родине многие калмыки «точь-в-точь похожи на Пушкина» — даже кудрявые и с «бакенами».
Все это не вязалось с их отрицанием хоть каких-нибудь достоинств своего народа, о котором калмычата отзывались плохо.
— Калмык хитрый, — говорил Коля.
— Всех хитрей, — вторил ему Вася.
— А вы? Вы же не хитрые, — начинал возмущаться я.
— И мы хитрые.
— Ну, и в чем ваша хитрость?
— Потому что мы дураки, — как бы подводил черту Коля.
Может, грешно так думать об этих открытых и наивных ребятишках, но сама собой напрашивается мысль: возможно, самобичевание было у них одной из форм самозащиты?
А к весне калмыки так же внезапно, как и появились, куда-то исчезли. Приехали из района на подводах, собрали их по дворам и увезли. При этом молодой их начальник-надзиратель и приехавшие за ними русские милиционеры были почему-то сильно недовольные и злые…
Но все это было аж когда? А речь в этой главе идет о последней военной весне… И рассказать-то я хотел всего-навсего об игре в шарик — мужественной и почти напрочь позабытой игре моего детства. Но вон куда увели воспоминания…
…А калмыков мы больше никогда не видели. Осталась лишь неизбывная и горькая память о них. И еще сожаление о том, что не знаю я подлинных имен тех прежних дружков своих — Коли и Васи, не знаю их фамилий. Где они сейчас, что с ними? Если, конечно, остались живы.
И теплится слабая надежда: вдруг да попадется кому из них эта книжка моя.
Ведь дело-то было, и правда, давно…
Глава 9
БЫЛА ВЕСНА…
1
Умирал мой дедушка, Семен Макарович…
Теперь ему и с печи слезть — так и то большого труда стоит. Лежит целыми днями под изодранным полушубком и только глухим надсадным кашлем выдает себя.
А на дворе весна, работы невпроворот, и про дедушку словно бы все забыли. Лишь изредка навестит его старый дружок Тимофей Малыхин.
— Ты живой ишшо, солдат? — осведомится с порога, потом, кряхтя, залезет по припечек, свернет по цигарке для себя и для дедушки. Тот с первой затяжки зайдется в кашле, обуглится лицом, о Тимофей бестолково суетится, не зная, чем помочь:
— Вот якорь тебя зацепи, хотел вить, как лучше…
— Не… выкурил я, видно, свой лимит, — стонет дедушка, отхаркиваясь в тряпицу, — пора уж, сынки, Паша с Никитой, должно, обо мне соскучились.
— Погоди, поживем ишшо трошки, там належаться успеем, поди.
— Оно-то ток. Шибко уж до победы дожить охота. Маленько уж осталось, под Берлином, говорят, наши-то… Да ей ведь, курносой, не прикажешь…
— Крепись, солдат, авось дотянешь, — успокаивает Тимофей. Они долго молчат.
— Как там, на улице-то? — спрашивает дедушка.
— Дак весна хорошая, дружная. Снег с пашни сволокло, землица паром исходит, аж стонет — зернышка просит. Счас бы только руки, да где оне?
— Беда-а, — вздыхает дедушка. — Вот она, жись-то — пролетела, будто ничего и не было. Сынов ростил, хотел память после себя оставить — и те погибли. Где же она, справедливость-то, куда же это господь бог-то смотрит?