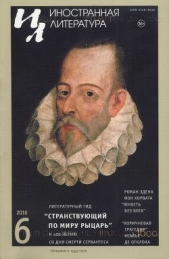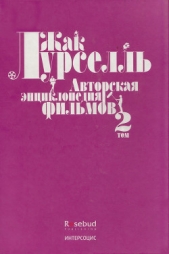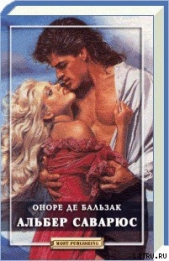Альбер Ламорис
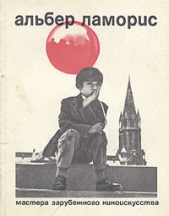
Альбер Ламорис читать книгу онлайн
Среди обилия имен, названий, жанров очень трудно выделиться фильмам неигровым и особенно короткометражным. Однако, это произошло. Короткометражки французского режиссера Альбера Ламориса оказались заметным явлением киноискусства. Автор книги делает экскурс в историю развития французского короткометражного фильма, рассказывает о полнометражном кино тех лет и о творческом пути А.Ламориса на этом общем фоне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Париж Писсарро, дождливый, но столь же притягательный, с симметрией домов и восхитительной асимметрией экипажей, притягательный уже не яркостью, а блеклостью, не светом, а сумраком, и все такими же переливающимися оттенками жемчужного, лилового, сиреневого, синего, коричневого; и его полные света, радости, жизни парижские мосты, где цвета абсолютно неправдоподобны и в то же время абсолютно естественны, где солнечные лучи, скользящие облака, небо на мгновение изменяют реальные цвета и очертания предметов, и это–то мгновение волшебно захватывает художник — красные лошади тянут черные экипажи, красные экипажи тянутся за черными лошадьми, мост кажется ковром, впитавшим в себя цвет всего, что движется по нему и смотрится в него, дома отражаются в воде, меняя её цвет, вода — в окнах домов, и все это играет, переливается, обновляется…
Париж Мориса Утрилло, без игры света и воздуха, трепетания листвы и мягких переливов красок. Его Монмартр, узкие, пустынные улочки, часто заходящие в тупик; безмолвные дома со спущенными жалюзи; неразмытые, непрозрачные краски, рисующие мир неизменным, необновляющимся; резко очерченные, почти геометрические контуры домов, крыш. И в этом — своя поэзия, которая возникает из ощущения, что эти полотна написаны детской рукой, с детской непосредственностью, с детским восприятием мира таким, как он есть: это ощущение возникает от ярких, наивных красок крыш и домов — синих, красных, белых, розовых, коричневых, от того, что каждая крыша, каждый дом имеют свой цвет; от того, что тщательно выписаны и раскрашены каждая черепица, каждая труба, каждое окно, каждая веточка на дереве; от того, что отсутствует воздушная перспектива, вместо которой — замкнутость, вакуумность, прибранность этих крошечных домов и улочек. Пейзажи Утрилло часто кажутся декорациями в чудесном спектакле для детей.
Париж в кино, Париж Марселя Карне, узнаваемый с трудом, реальный — становящийся нереальным; «бледный рассвет над узкими каналами, разъеденные сыростью дома, сумрачный колорит задымленных окраин, бесконечные заводы… рассеянный и зыбкий свет делали город призрачным, как бы утратившим объемность».[29]
Париж Рене Клера, Париж окраины, узких улочек, черепичных крыш с трубами, жалких, разваливающихся домов, жалких, милых, «нищих духом» обитателей, неприбранных комнат, маленьких кафе, бистро, дансингов, магазинчиков… На окраине Парижа утром и вечером проезжает тележка старьевщика, утром и вечером улицы тонут в тумане, и в этом тумане идет своя жизнь; кто–то наигрывает на гитаре, кто–то слушает ее, сидя за рюмкой вина, — и возникает меланхолия, грусть; поэзия рождается из асимметрии, тумана, далекой песенки, звуков гитары.
Париж Ламориса в «Красном шаре», квартал Бидонвиль, квартал трущоб, в котором нет толпы, а есть только занятые, озабоченные, спешащие люди; крохотные кафе, магазинчики, дворики, улочки, оставшиеся еще от средневековья, когда два человека уже не могут разойтись и солнце не может в них пробиться; улочки не прямые, как в центре, а неровные, поднимающиеся вверх и вниз, часто заходящие в тупик, а иногда выходящие к пустырям. Но тот же воздух, как флер, накинутый на эту бедность, скудость, несоразмерность, та же дымка, делающая все поэтичным, те же блеклые, переливающиеся оттенки…
И совершенно новый Париж, Париж, так еще не показанный, так еще не увиденный — без дымки, без флера, без окраин; Париж, где поэзия извлечена из ясности, из яркости, из определенности, из порядка — словом, из классической симметрии и гармонии. У Ламориса как у классиков — где порядок, где симметрия, где соразмерность — там красота, там прекрасное, там поэзия.
Ощущение красоты как симметрии присутствовало у Ламориса еще в «Красном шаре»: и в построении фильма, и в форме его главного героя, который был идеально круглым. (Для греков круг на плоскости и шар в пространстве являлись фигурами, обладавшими совершенной симметрией.).
После «круглости» «Красного шара» был фильм о Версале, дворец которого, построенный в стиле классицизма, сочетает удивительную композиционную ясность и строгость с поразительным богатством фантазии; гармонирует с парком, со всеми его элементами: газонами и аллеями, фонтанами и скульптурами.
Париж в новом фильме Ламориса включает в себя и ансамбли, и дома, и людей — всю жизнь, которая предстает у него в совершенной гармонии.
Все в его фильме — и краски, и музыка, и дворцы, и парки — все словно возвращено к истокам, к симметрии, к гармонии. Так Ламорисом создается новый Париж. Но в новый, радостный Париж вдруг входит грусть старого. Старый живет в новом.
Ибо если музыка в фильме Ламориса классическая, то она придает нашему восприятию неизбежную остраненность от настоящего, остраненность, вызывающую некую грусть, меланхолию.
И камера, благодаря которой мы видим Париж, тоже остранена, как и музыка, — остранена вертолетом. Париж чуть отдален от нас, мы видим его издалека, но мы не видим его вблизи. Ровное, плавное движение вертолета, который иногда чуть опускается, пролетает даже под Эйфелевой башней, летит вдоль дорог, наклоняется к бассейну, чтобы еще полнее обнаружить гармонию во всем, — оно тоже вызывает у нас некую грусть от невозможности погрузиться в этот город.
Замерло движение людей, машин на улицах — словно и они, и сам Париж прислушиваются к себе в это странное время сумерек, когда день уже кончился, а вечер еще не наступил, прислушиваются к себе, задумываются о чем–то — мы не узнаем никогда, о чем, потому что мы смотрим на Париж со стороны, — и вдруг вместе с сумерками, с неподвижностью людей и Парижа в фильм незаметно вплетается, входит какая–то грусть, какое–то не поддающееся объяснению настроение старого города.
Вот какой–то дом — единственный, который нам дано на минуту увидеть близко. Он сплошь состоит из стекла — в Париж пришел XX век — и у окон неподвижны фигуры людей, о чем–то задумавшихся, слушающих замерший город. В стеклах дома отражается Париж, другие его дома словно плывут навстречу стеклу, как будто сами хотят отразиться в нем, ожившие дома в живущем своей глубокой и непостижимой жизнью Париже. Заходит солнце. Неподвижны люди. Медленно опускается на Париж вечер.
Облака над лесными гигантами
Перепутаны алою пряжей,
И плывут из аллей бриллиантами
Фонари экипажей.
Все сверкает огнями. Без суеты, ровным, сплошным потоком начинают двигаться машины. Оживают улицы от неторопливо идущей толпы. А над морем огней, над толпой гуляющих, над осенним Парижем, как купол, нависли облака — сиреневые, серые, лиловые облака, и нежным светом переливается отражающая облака сиреневая вода, и весь Париж погружается в лиловато–серо–сиреневую ночь, знакомый и незнакомый, старый и новый, виденный и никогда еще так не виденный Париж.
Сказка Ламориса
В последней главе обычно подводят итоги. Итог… Это слово совсем не подходило Альберу Ламорису. Он не был «мэтром», хотя и был Кавалером ордена искусств и литературы. По статуту, этот французский орден получают художники любой национальности, внесшие вклад в развитие мирового искусства и литературы. Ламорис был Кавалер, но никак не мэтр. В его творчестве не было скачков и взрывов, тема и герои менялись, видоизменялись от фильма к фильму плавно, последовательно. Но они все же менялись, как и способ выражения, техника, как постепенно, хоть и медленно, менялось видение мира — не только в философском, но и в самом буквальном смысле этого слова. Достаточно сравнить между собой его фильмы, чтобы понять, сколь своеобразно их движение, как по–разному выражал себя Ламорис, нигде в то же время себе не изменяя.
«Не имеет смысла проводить часть жизни в том, чтобы снимать фильмы в одном и том же духе. Каждый день все меняется, и нужно во что бы то ни стало превозмогать ощущение успокоенности, устроенности… Если я рассказываю историю, я должен и в своем возрасте учиться снимать фильм так, чтобы быть человеком современным, не работать по канонам времен бабушкиного и дедушкиного кино. Я стремлюсь снимать такие фильмы, которые дают мне возможность меняться…»