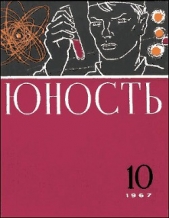Светозары
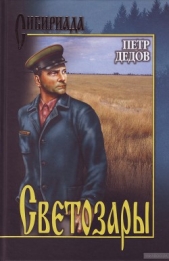
Светозары читать книгу онлайн
Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да всё по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново!
Роман известного сибирского прозаика Петра Павловича Дедова во многом автобиографичен и оттого еще более интересен и достоверен в раскрытии самого духа Сибирской земли.
Книга издана к 75-летию писателя..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марьяна поглядела на меня, длинно вздохнула, тихонько добавила:
— Вот и вся любовь…
Признаться, этим рассказом я был немного разочарован. Я думал, Марьяна объяснит случай, который произошел с ней сегодня утром — в камышах, в непроглядном тумане… И я опять пустился на хитрость, спросил:
— И после того никакой любви у тебя не было?
Она поглядела на меня еще пристальнее, покачала головой:
— А не рановато тебе об этом? Гли-ка, дотошный какой, прямо как прокурор… Любовь-то была, да сплыла! — Она скинула с плеч жакетку, резко поднялась, стала ходить по избушке, угловатая, некрасивая в своей худобе. Белое, в илистых засохших пятнах, платье болталось на ней, как на колу. — Была, да сплыла, парень, — повторила она. И опять села к печурке и стала рассказывать, — какой-то будничной скороговоркой, сбиваясь, путаясь, и эта история ее любви показалась мне до обидного простой, даже скучноватой: никакой здесь не было романтической тайны, никаких красивых сцен, которые я успел уже присочинить для себя, когда услышал невыразимо печальную песню в тумане…
Всегда вот так: когда долго и напряженно ждешь какого-то события, лелеешь заранее его в своем воображении, — почти всегда наступает потом досадное разочарование.
Марьяна рассказала, как нынче, еще с весны, приехали на Чаны из города Омска два охотника. Хотя истинную цель их пребывания на озере определить было трудно. Они и охотились, правда, но ловили также рыбу, промышляли на крючки и капканами водяную крысу — ондатру, и что особенно было чудно для местных жителей, — добывали на тихих Чановских плесах водяных личинок-горбунцов, которых называли мормышем. Говорили, что этого самого мормыша, высушенного на солнце, за большие деньги покупают в городе люди, которые держат дома живых рыб в стеклянных ящиках с водой…
Говорили про этих чудаковатых охотников-горожан и еще кое-что менее приятное. Будто в дальних камышовых крепях выслеживают они лебединые выводки и стреляют птиц единственно ради знаменитого лебяжьего пуха, который сбывают в городе на черном рынке чуть ли не за золото. Всяко поговаривали, да людям только верь…
Прожили охотники на озере всю весну, лето и осень, лишь изредка отлучаясь по очереди в свой город, — отвозили добычу.
— Ну, вот, и повстречалась я с одним из них однажды весенним утречком, — рассказывала Марьяна. — Крепок парень, чернявый — на татарина маленько смахивает. А глаза — дак прямо черные угли — так и прожигают. Повстречалась и сразу же втюрилась по уши — раз, и на веки вечные… Видно, в родну матушку свою удалась — такая же шалая. Она ведь, матушка-то моя, и одного месяца после гибели тяти не протянула: от тоски-присухи исчахла… А мне уж двадцать три годочка, а я, акромя слюнявой бульдожьей морды того уполномоченного, и мужика-то настоящего первый раз, почитай, увидела. Мои-то женишки на войне все остались… Так и началась наша любовь, да скоро кончилася. Хотела песенками своими удержать ясна сокола, а ему оне, мои песенки, — что вой ветра в чистом поле… А боле держать мне его было нечем. Все ему отдала, на все унижения пошла, — сама недоедала, у ребятишек, сестренок младших, кусок из горла вырывала, чтобы ему на самогонку обменять. А работала как, — не приведи господи! Вот и дошла: одне кожа да кости остались. Кому такая нужна? В огород заместо чучела?
Марьяна помолчала, глядя пустыми глазами в печурку, где под сизым ворохом пепла копошилось еще что-то живое, огнисто-алое, и бледный тонкий лик ее будто этим умирающим огоньком вдруг озарило: она улыбнулась, светясь зелеными глазами, и даже что-то наподобие румянца проступило у нее на щеках.
— Нет, ты не подумай чего… О нем я плохого не скажу, — заторопилась она. — Попервости-то он ко мне всем сердцем, как хорошо у нас все было! Скока вешних зорек встретили на озере! А зори здесь… Все алое, и не поймешь, где небо, а где вода. Рыба плеснется — искры летят, будто кресалом по камню ударили… А он такой чудак был: брошу, говорит, свой вонючий город, навсегда приеду сюда жить, охотничать буду, рыбалить. Женюсь, говорит, на тебе… Даже клятву давал… Ну, a дальше уже не интересно, — снова померкла Марьяна. — Осенью, ближе к холодам, как уезжать имя к себе в город, — он тоже ко мне похолодал. Избегать стал, вроде как прятаться. А я совсем извелась, на виду стала таять, как свечка восковая…
Марьяна тихонько всхлипнула, и тут вдруг будто прорвало ее. Она ничком повалилась на жердяные нары и забилась в судорогах, а изнутри накатывали к горлу, душили ее рыдания.
— А теперь чо… Теперь ничего больше не будет! — вскрикивала она сквозь удушье. — Теперяка мне больше не жить!..
4
Вскоре Марьяна ушла домой, в свою деревню Тополевик. Она совсем успокоилась, только изредка глубокие всхлипывания сотрясали все ее худенькое тело. Так всхлипывают наплакавшиеся дети.
А я после ее ухода уснул в жарко натопленной избушке тяжелым беспамятным сном и проспал до вечера. Нечего было и думать о том, чтобы попасть сегодня домой. Если даже наши и приезжали на приозерные луга за сеном, то приезжали обыденкой и давно уже уехали назад. Я решил заночевать снова на озере, поохотиться вечернюю зорю.
На берегу пустынно и тихо. Ни ветерка, ни гомона птиц. Слева водная гладь выпукло уходит за горизонт, справа бесконечно тянутся рыжие камыши. Над камышами кружат молчаливые чайки. На закате солнца выдаются в природе такие вот тихие минуты. Все вокруг замирает словно бы в ожидании чего-то таинственного, что вот-вот должно случиться. Затихает ветерок, умолкает все живое. Но ничего не случается, просто в эти мгновения солнце уходит за горизонт.
Вот оно, сумеречно-алое, идеально круглое, коснулось озерной глади и словно бы разбилось о нее, хлынуло в воду алым потоком и, вытекая, сплюснулось, стало меркнуть.
И сразу раздаются резкие крики чаек, они мельтешат вдали и кажутся черными на фоне красного неба.
Я торопливо спихиваю в воду лодку, стоя, пригнувшись, осторожно плыву, отталкиваясь шестом. Нахожу укромный плес с выходом на большую воду, выбрасываю чучела, вместе с лодкой втягиваюсь в густой камыш. Маскируюсь камышом спереди и сверху. Устроился удобно.
Парочка деревянных моих чучел, мастерски вырезанных дядей Лешей из сухого осинового полена и раскрашенных масляной краской, сидят неподвижно, словно примерзли к мрачновато-красной воде. У крякаша-селезня висит на кончике широкого носа капля, она кроваво просвечивает, дрожит и вот-вот сорвется. Она притягивает к себе, эта капля, надо бы другое смотреть, о другом думать, а я сижу и напряженно жду: вот упадет, вот упадет…
Капля наконец сорвалась, — и сразу все началось! В одно мгновение сумеречное небо наполнилось шорохом, шуршанием, посвистом многих крыл. Несколько утиных табунов низко пронеслось над моей озеринкой, птицы черными клочьями мелькали, казалось, перед самым моим лицом, и нельзя было разобрать, куда они летят и откуда. Они кружились в воздухе, будто поднятые внезапным вихрем, а я настолько растерялся, ошалел от неожиданности, что позабыл о ружье.
Утки кишмя кишели уже и на самом плесе, вода кипела и отсвечивала красной рябью, тогда я взвел курок и выстрелил не глядя в это буйное кипение. Птиц сорвало с воды, все они с заполошными криками метнулись почему-то в одну, в левую от меня сторону, на мгновение все стихло, но сразу же на плес привалила новая стая, словно утки сыпались с неба, и опять взбурлила вода, и я, уж не скрываясь, стоя в лодке в полный рост, непослушными, деревянными пальцами перезарядил ружье и снова выстрелил. Видимо, утки сорвались с плеса и теперь, но я этого не заметил, так как на смену им тут же опустилась еще стая, потом еще, и я опять стрелял наугад в это мельтешение крыльев, в этот живой орущий клубок…
И после третьего моего выстрела как отрезало: уток не стало. Я подождал, но ни единой птицы не мелькнуло больше над плесом. У меня дрожали руки, а спина была в холодном поту. Все произошло мгновенно, я не успел и обрадоваться, почувствовать страстный охотничий азарт. Вообще не успел даже ни о чем поду мать, ничего сообразить. И теперь сидел в лодке ошеломленный, ощущая неприятную, сосущую пустоту в груди.