Избранное
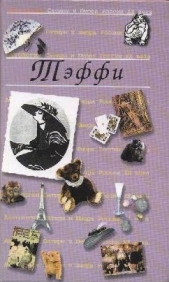
Избранное читать книгу онлайн
«Если юмор Гоголя — «смех сквозь слезы», юмор Достоевского — смех сквозь отчаяние, юмор Салтыкова — смех сквозь презрение, юмор Ремизова — смех сквозь лихорадочный бред, то юмор Тэффи, как и юмор Чехова, — смех сквозь грустный вздох: «Ах, люди, люди!» Человек человеку, в представлении Тэффи, отнюдь не волк, но, что делать, изрядный таки дурак».
Александр Амфитеатров
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы ездили в Виши?
— Да, ездила. Только что вернулась.
— Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!»)
— Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.
И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским, и он смеется.
То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию — отпущение грехов:
— За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.
— Неужели двух? — обрадовалась я. — Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.
Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей Птицы».
— Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.
Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.
Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.
Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь, как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали, громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик с открытым ртом и закатившимися белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.
И вдруг запел ось в душе стихотворение, милое, наивное, детское:
Милый Бальмонт!
И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся и мелькает в пруду волшебная рыбка.
Прочту — и начинаю сначала. Как заклинание. Милый Бальмонт!
Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли, синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.
Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.
Зинаида Гиппиус
В Петербурге мы с Зинаидой Гиппиус[1] были мало знакомы. Встречались мельком на разных собраниях. Но вплотную и пренеприятно произошла наша встреча на страницах газеты «Речь».
Мне поручили написать отзыв о только что вышедшей книге стихов А. Белого. Кажется, она называлась «Пепел». Книга мне не понравилась.
Это была какая-то неожиданная некрасовщина, гражданская скорбь и гражданское негодование, столь Белому несвойственное, что некоторые места ее казались прямо пародией. Помню «ужасную» картину общественного неравенства: на вокзале полицейский уплетает отбивную котлету, а в окне на этот Валтасаров пир смотрит голодный человек. Рассказываю, как удержала память, а перечитывать эту книгу желания никогда не было.
Отзыв я о ней дала соответствующий впечатлению.
Через несколько дней звонят ко мне по телефону из «Речи».
З. Гиппиус прислала статью по поводу моего отзыва, очень мною недовольна. П. Н. Милюков[2] предлагает прислать мне сейчас же эту статью, чтобы я могла на нее ответить в том же номере. Это была со стороны Милюкова исключительная ко мне любезность.
Я поблагодарила, прочла статью Гиппиус и в том же номере ответила. Ответила так зло, как со мною редко бывало. Но столкновение это ни в ней, ни во мне обиды не оставило.
Близкое знакомство наше состоялось уже во время экзода в Биаррице.
Там мы встречались очень часто и много беседовали. Затем в Париже, после смерти Мережковского, завязалось у нас нечто вроде дружбы. Зинаида Николаевна писала мне: «Всегда ищу предлога прийти к вам». Иногда мы переписывались в стихах.
Зинаида Гиппиус была когда-то хороша собой. Я этого времени уже не застала. Она была очень худа, почти бестелесна. Огромные, когда-то рыжие волосы были странно закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет промокательной бумаги. Косые зеленоватые, плохо видящие глаза.
Одевалась она очень странно. В молодости оригинальничала: носила мужской костюм, вечернее платье с белыми крыльями, голову обвязывала лентой с брошкой на лбу. С годами это оригинальничанье перешло в какую-то ерунду. На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль.
Зимой она носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько штук сразу, одна на другой. Когда ей предлагали папироску, из этой груды мохнатых обверток быстро, как язычок муравьеда, вытягивалась сухонькая ручка, цепко хватала ее и снова втягивалась.
Когда нас выселили из «Мезон Баск», Мережковским повезло. Они нашли чудесную виллу с ванной, с центральным отоплением. А мне пришлось жить в квартире без всякого отопления. Зима была очень холодная. От мороза в моем умывальнике лопнули трубы, и я всю ночь собирала губкой ледяную воду, и вокруг меня плавали мои туфли, коробки, рукописи, и я громко плакала. А в дверях стояла французская дура и советовала всегда жить в квартирах с отоплением. Я, конечно, простудилась и слегла. Зинаида Гиппиус навещала меня и всегда с остросадическим удовольствием рассказывала, как она каждое утро берет горячую ванну, и как вся вилла их на солнце, и она, Зинаида Николаевна, переходит вместе с солнцем из одной комнаты в другую, так как у них есть и пустые комнаты.
В одном из своих стихотворений она говорит, что любит игру. Если в раю нет игры, то она не хочет рая. Вот эти некрасивые выходки, очевидно, и были ее «игрой».
Бывала у них в Биаррице пожилая глуповатая дама, довольно безобидная. Говорила, когда полагается, «мерси», когда полагается — «пардон». Когда читали стихи, всегда многозначительно отзывалась: «Это красиво». И вот З. Гиппиус принялась за эту несчастную:
— Скажите, какая ваша метафизика?
Та испуганно моргала.
— Вот я знаю, какая метафизика у Дмитрия Сергеевича и какая у Тэффи. А теперь скажите, какая у вас.
— Это… это… сразу трудно.
— Ну чего же здесь трудного? Скажите прямо.
Я поспешила отвлечь внимание З.Н. Когда уходили, дама вышла вместе со мной.
— Скажите, у вас есть Ларусс? — спросила она.
— Есть.
— Можно вас проводить?
— Пожалуйста. Зашла ко мне.
— Можно заглянуть на минутку в ваш Ларусс? Я уже давно, поняла в чем дело:
— Вам букву «М»?
— Н-да. Можно и «М».
Бедняжка смотрела «метафизику». Но все же следующее воскресенье предпочла пропустить. А я за это время угомонила З.Н.
— Мучить Е.П. — все равно что рвать у мухи лапки. З.Н. говорила с презрением:
— Ну, вы! Добренькая!
Человеку всегда обидно, когда его считают слабеньким, и я защищалась:
— Я бы поняла, если бы вы пошли на медведя с рогатиной. Но когда лапки у мухи — меня тошнит. Это неэстетично.
Любопытно было отношение Мережковских ко всякой нежити. Привидения-оборотни — вся эта компания принималась ими безоговорочно.
Вспоминается по этому поводу одна наша беседа, короткая, но требующая длинного предисловия.
Был тихий туманный день. На пляже народу не было. Бродили только немецкие солдаты. Я хотела было выкупаться, но какая-то густая, черная, жирная грязь сразу облепила ноги. Никак нельзя было ее отмыть. И вдоль всего берега лежала она волнистой каймой, прибиваемая приливом. Солдаты тоже заметили ее и что-то между собой говорили.


























