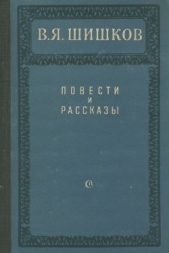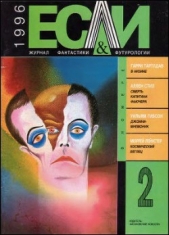Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]
![Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/uploads/posts/books/49880/49880.jpg)
Хреновинка [Шутейные рассказы и повести] читать книгу онлайн
Добрые, то веселые, то печальные рассказы и повести Вяч. Шишкова, которые сам писатель называл «шутейными», составляют основу сборника. Стихийные, яркие, они запоминаются живыми характерами, колоритным языком. А главное тем, что в них живет Россия, какой она была в первой трети нашего века: талантливая, необузданная, смешная, горькая — неповторимая Россия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот он на высокой горе крутой, а внизу ждут не дождутся тысячи народа, настоящего, ученого: генералы, механики, американцы, немцы, доктора, кассиры, исправники и многое множество других людей. «Модест Петрович Игренев на собственной машине полетит, сам господин Игренев!» А сзади, там где-то возле леса, сиволапая деревенщина торчит. «Ага, дружочки, что? Узнали?» А на отшибе, у зеленого кустышка… У-у, тварь! Нет, лучше не глядеть туда… Вот генералам невтерпеж: «Модест Петрович, господин изобретатель, нельзя ли поскорей…» — «Нельзя!» Модест нарочно медлит, красуется, пробует винты, оглаживает крылья: пусть ждут, он проморит их так весь день, всю ночь, пусть генералы ждут — не велика беда — ведь он изобретатель, знаменитый человек, он — на горе! Стойте, дожидайте.
И вот, когда Модесту самолично в мысли вступит, он расправит крылья белые, вспорхнет орлом и помчится навстречу всем ветрам небесным, круче, выше. И оттуда смачно плюнет вниз, на генералов, на народ.
— Тьфу вы все! Ползайте, рвите друг другу глотки, черти проклятые. Я — Модест! Русский большеголовый мужик! В Америку, черти! За патентом. В настоящую Америку. До свидания вам!.. Я…
Модест враз оборвал свой зазвеневший металлом голос, попятился: и сквозь густую тьму ночи всколыхнулся отдаленный свет, там, на горе, у кузни. Ярче, шире, необузданней.
У Модеста сами собой подогнулись ноги, он грузно опустился на пол и застонал. Ему показалось, что сердце его пронзает острый, докрасна раскаленный нож, голова, как воск, плющится под ударами тяжкого молота, и кто-то гнусаво, заливисто хохочет ему в лицо.
— Горит… Амбар мой…
Он вдруг вскочил, высокий, страшный, и со всех сил загрохал руками и ногами в дверь, окрашенную отблеском пламени. Но мертво и глухо было, никто не отзывался, а дверь прочна: еще зимой крепко оковал ее сам Модест железом.
— Амбар… Машина моя… Что вы со мной делаете?..
И в первый раз за всю жизнь свою Модест Игренев заплакал горько, сумасшедше.
В это время, вольготно полеживая у костра на озерине, пьяный, Рукосуй варил хлебово из украденного гуся и смотрел вверх, где полыхал вовсю зажженный им кузнецов амбар.
— Я те полечу, будь ты проклят, — ржал он нехорошим слабоумным смехом. — Я те полечу-у-у.
АЛЧНОСТЬ (Страничка прошлого)
Торговый человек Афанасий Ермолаич Раскатилов гремел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке, богатей был, но в рост денег не давал, не маклачил.
У купца служил с малых лет Григорий Синяков. Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках.
— Присматривайся, Гришка… Человеком будешь, — сказал купец и потрепал по щеке. — Грамоте-то знаешь?
— Мало-мало кумекаю, — расторопно ответил мальчик. — Рифметику учил, еще хрестоматию, о рыбаке и рыбке наизусть…
— Про рыболовство, что ли?
— Нет, про старуху про одну. Называется — стихи.
— Ну, это ерунда. Нашему брату ни к чему твои стихи. А сколько семью пять?
Гришка замигал.
— Вот, сопляк, и не знаешь. Выходит: твоя наука — тьфу.
Афанасий Ермолаич старился. Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои, когда человеческое сердце источает к людям свет любви… Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела.
Чтоб иметь оправданье своелюбивой своей жизни и успокоить прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синякова в люди.
«Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед господом».
Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяина.
Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припеваючи жил себе у тестя-мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин, по старой памяти и на правах благодетеля, все еще Гришкой его кличет:
— Гришка, слушай-ка! Съезди-ка, брат, в Княжево, турни там доверенного в три шеи: жулик, черт.
Григорий Иваныч ехал и вершил суд с расправой.
— Эй, Гришка! Одначе пора доходы собирать. Ай-да-ко благословись.
И ехал Григорий Иваныч по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.
Однажды, глубокой зимой, в ночь перед отъездом Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он. И наткнулся на лешего. Сидит леший в сорокаведерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги: золотые червонцы горьмя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают, ну такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Дай и мне», — не утерпел Григорий. «Бери, — ухмыльнулся леший, — только смотри, как бы не того… не этого…» — да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил. И с тем проснулся.
— Ох, и худой же сон, — вздохнула его жена Даша.
Старуха тут толклась, горчички пришла занять, уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та — то же:
— Будет тебе, родимый, испытание. Мотри, гляди в оба. С опаской поезжай, благословись.
Тесть-мельник успокоил:
— Ты не слушай баб. Снам петух верит. Ну-ка, выпьем на прощаньице…
Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет.
Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом, и зыбучая, вся в выбоинах, дорога как волны в море.
На холоде Григорий Иваныч забыл свой темный сон, знай нос три чаще, а будет мороз одолевать, выскочи из кошевки да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок, ехать на таком коне не скучно, да ежели и злой человек умыслит в ночное время пакость сделать, Пегаш не выдаст. Только крикни: «Грабят!» — рванет Пегаш, полозья в визг, снежная пыль столбом, и ветер свищет.
Да, впрочем, Григорий Иваныч и не очень-то боялся нападений: денег в бумажнике немного, для отвода глаз, вот разве шубу снимут или топором по черепу. Ну что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти: в березовых полозьях кошевки продолблены потайные глубокие пазы, в них вся казна лежит.
Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править, а то рухнет дорога — плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную, раннюю весну.
«Авось с недельку еще продержится, — утешал себя горячий на работу Григорий Иваныч Синяков. — Авось морозец ударит, утренник».
И он решил в последний пункт завернуть, в торговое село Кринкино. Подъехал он в сумерки к реке Прибою, только бы перебраться на тот берег — тут и Кринкино, слышно, как собачонки брешут.
Лишь стал коня на лед спускать, вдруг:
— Стой, паря! Ты сдурел! Переночуй добром. Вишь, темно.
Оглянулся Григорий Иваныч — старик возле него, дедка Арсений, бородой трясет. Послушался умного совета, ночевал у старика.
А ночью дождь пошел, к утру ручьи взбурлили, дождь пуще, пуще.
— Переночуй еще, — сказал дед Арсений. — Ежели не выведрит да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать в обратную. А то чего доброго мырнешь, да и не вымырнешь.
Еще ночь переждал Григорий Иваныч. Действительно, морозец пал.
— Ну, благословляй, дедушка Арсений.
— А ты вот что… Иди-ка через речку пешком… Вишь, лед-то посинел… Пегаша не сдержит.
— Сдержит… Без саней никак невозможно мне.
Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду: к обедне благовестили, шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце, стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями, воробьи на прясле гомон подняли.
Григорий Иваныч забрал в горсть вожжи, стал спускаться. Возле самой закрайки — лавина. Пегаш всхрапнул, перескочил, кошевка стукнула, брызги фонтаном вверх. А сзади крик: