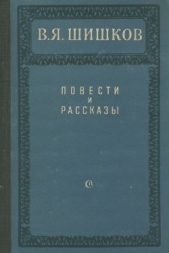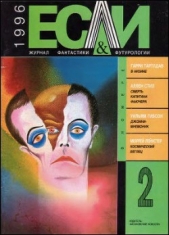Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]
![Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/uploads/posts/books/49880/49880.jpg)
Хреновинка [Шутейные рассказы и повести] читать книгу онлайн
Добрые, то веселые, то печальные рассказы и повести Вяч. Шишкова, которые сам писатель называл «шутейными», составляют основу сборника. Стихийные, яркие, они запоминаются живыми характерами, колоритным языком. А главное тем, что в них живет Россия, какой она была в первой трети нашего века: талантливая, необузданная, смешная, горькая — неповторимая Россия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Он самый.
Даже жена, круглобедрая Палаша, удивлялась:
— Иным часом рад целого барана стрескать, а тут так… Ешь!
— Постой, погоди ты, — отодвигал он миску с пельменями, отвертывался к окну и смотрел вдаль как помешанный.
А через неделю, в праздник, утром, он сказал жене:
— Становь самовар. Тащи оладьи… А я за медом слетаю, живо обернусь…
Палаша знала, что муж вернется с пасеки только к обеду — туда-назад верст шесть, — и подала ему узелок с едой:
— На, там закусишь…
— Говорят тебе, через полчаса слетаю…
Палаша долго смотрела ему вслед, у ней опустились руки, а сердце захолонуло.
В это время к заимке подъезжал верхом на своей замухрастой лошаденке Гаврила Осипыч Воблин, кум.
Он свернул в кусты, очистил от пыли блестевшие на солнце сапоги, венгерку со шнурами и стал прихорашиваться перед карманным зеркальцем: ловким зачесом прикрыл лысину отращенными над правым ухом волосами, поставил вверх свои военные, подкрашенные линючей краской усы, ласково провел по гладко выбритому подбородку с ямочкой и надел гуттаперчевый, резко сияющий воротничок номер сорок пять. Пыхтел, сопел, кряхтел: было очень жарко, и воротничок — дань моде — впивался в красную шею острыми краями.
— A-а… Пелагея Филимоновна! Сколько лет! С праздничком!.. — вскричал он, входя в гостеприимный двор.
— На уж, целуй… Чего тут… Прохиндей. Привык по-благородному-то? — весело встретила его хозяйка и протянула к толстым, враз оттопырившимся губам кисть руки, пахнувшую луком.
— Хе-хе… С праздничком, пряник мятный!.. — Чмок-чмок, — с воскресным днем, достопочтенная Пелагея Филимоновна…
— Чего уж, — засмеялась та в кончик ярко-красной головной повязки, которая так ловко оттеняла ее миловидное синеглазое лицо, — чего уж черемониться-то… Зови Палашей… А при нем ежели — Филимоновной…
— А их нет?
— Кого это их?.. Мериканца-то?.. Да с ума, видно, спятил… На пасеку улетел. Я, грит, не пойду, а полечу, как гусь.
— То ись как?
Через минуту, в одной взмокшей рубахе, Воблин, раскорячившись, умывался во дворе. Палаша рассматривала его плохо закрытую лысину, лила в широкие пригоршни ключевую воду и дразняще посмеивалась:
— Ну и кобыленка у тебя… Чисто коза. Ххи!.. И как это она под тобой, под толстомясым, дюжит?
— Подо мной-то? Ф-фу… — отфыркивался Воблин… — Подо мной даже приятно… Я б те сказал… да боюсь — ковшом по маковке ерыкнешь…
Самовар пускал пары. Сидели друг против друга. Скатерть белая; кирпичный чай с топлеными сливками душист; блины, оладьи, пирожки с начинкой вкусны.
Учитель скатывал в трубочку враз три блина и, обмакнув в растопленное масло, отгрызал. Отгрызет да опять потычет. Вкусно. То же проделывала и хозяйка. Так макали они в общую масляную чашу, смачно чавкали и облизывали губы.
Воблин жадно все пожирал, как крокодил.
— Протрясло дорогой-то. Семьдесят верст ведь.
— Ешь во славу, чего там… У тебя торба-то эвон какая, полвоза сена вбякать можно.
— Хе-хе… Чего-то в голову вдаряет. Рюмашечку бы…
— А ты расхомутайся, — повела она бровями на воротничок.
— Нельзя-с, Палашенька. При даме сердца-то? Нельзя.
— Чего нельзя. Все можно.
— Можно? Ну, в таком разе… — он вдруг вскочил. — По-военному! — и, как петух на курицу, налетел на подавившуюся сахаром Палашу… Чмок-чмок.
— Чтоб тебя… Пусти!.. Мериканец идет!.. Пусти!..
Скрипнули половицы, отворилась дверь.
— Здрасте-ка, приятно кушать.
Большой сухопарый старик, бородка клинышком, крестился на иконы.
— A-а, старшина… Начальник!.. — раздувая ноздри, вскричал Воблин и стал закручивать буравчики-усы.
— Садись-ка, дедушка… — вспыхнув маковым цветом и оправляя красную повязку, сказала Палаша. — Поди устал с дороги-то. Дальний гость.
— А где ж хозяин-то?
Выпили два самовара, а Модеста нет как нет. Пошли к обрыву.
Сначала шли рядом.
Старшина, по прозванию Оглобля, сутулый и высокий, шагал, как журавль. Палаша плыла утицей, а Воблин катился брюшком вперед, незаметно чиркая большим оттопыренным пальцем, как по спичечнице, по крутому бедру соседки. Та точно так же незаметно била по руке и томно замирала, потом вдруг ойкнула; Воблин отдернул блудливую руку, схватился за усы и крякнул. Журавль ткнул в Палашу носом:
— Эк тя родимчик-то!..
На самом обрыве лежал вверх бородой бродяга Рукосуй, сосал трубку и поплевывал в небо.
— Помогай бог дрыхнуть! — шутливо крикнул Оглобля.
— Я работаю, — сказал сквозь зубы Рукосуй и лениво повернул к старшине черное от копоти лицо.
— Хы… Что же ты, паря, работаешь?
— Брюхо на солнце грею… — сипло сказал бродяга. — Да еще соловья в кустах слушаю… Чу!.. — и загоготал барашком.
Из кустов раздался стон.
— Мериканец!.. — крикнула Палаша и, вздымая облака песку, кинулась по откосу вниз.
Модест, весь мокрый, дикий, неузнаваемый, сидел, как свая в земле, по пояс в болотной гуще.
— Кум! Товарищ! — всплеснул руками Гаврила Осипыч, укрепившись на твердой кочке.
— Тащите… Зашибся, кажись… Подвела, анафема… попортилась.
— Кто?!
И тут только заметили крылья, как у огромного нетопыря, хитро прикрепленные веревками к туловищу Мериканца…
— Батюшки, са-атин… Сатине-е-т мой, — заквилила Палаша. — Моде-ест, да ты сдуре-е-л…
— Тьфу, твой сатин!.. Ступа этакая… Я, кажись, ногу повредил.
Учитель Воблин деловито засуетился:
— Ну, старшина, командуй!.. Пелагея Филимоновна, пожалуйте удалиться в отдаление… Потому — болото, мужской пол окажется без всяких яких… вообще дело грязное… — закончил он витиевато, как всегда на людях, уселся на сухую кочку и, страшно пыхтя от напряжения, стал проворно раздеваться.
После усиленной работы Мериканца извлекли. Кости и суставы оказались целы, лишь было оцарапано лицо и чуть надорвана ноздря.
Крикнули хозяйке, чтоб убиралась восвояси, а сами в голом виде, похожие на арапов, пошли обходными путями к воде, чтоб смыть с тела густую грязь, начавшую уже подсыхать на солнце.
— Тебе бы надобно пуще махать… Чего ж ты оплошал-то?
— Сильно махал… Саженей десять пролетел. А тут сердце зашлось, я — хлоп!..
— Это тебе, кум, не ироплан. Хорошо, что не башкой воткнулся… Век бы в такой трясине не найти.
— Ку-уда тут…
— Хы! Вот это лета-а-тель. Так сильно махал-то, говоришь? — подмигнул Оглобля.
Гаврила Осипыч Воблин катился сзади, отколупывая с толстых холок лепешки грязи и опасливо озираясь на кусты: не подсматривает ли плутоватая Палаша. Передом шел Мериканец — черт чертом, с крыльями. Непослушными от раздражения руками, злясь и дергаясь, он старался распутать узлы веревок. А Оглобля, как конь хвостом, что есть силы крутил в воздухе полосатыми портками — уж очень донимали комары.
С этого дня про Мериканца в народе такое пошло, что и не вымолвишь.
Усердней всех старался бродяга Рукосуй: он был чуть сумасшедший, и его частенько обуревала, особливо после перепоя, чертовщина и виденица. Рукосуй клялся и божился, что самолично усмотрел, как Мериканец летал на какой-то птице, словно бы на индейском петухе, да откуда-то припорхнул, дескать, коршун, не иначе — из болотины рогатый черт, клюнул индюка в бороду, — ну, знамо дело, Модест и загремел.
Однако бродяжьей божбе веры не было, да и Рукосуй на другой день плел уже иное, до того несуразное, что даже сам удивленно выкатывал глаза и норовил подобру-поздорову скрыться.
Зато потрясучие старухи, эти заправские ведьмины дочери, жившие, по выражению Воблина, «на легкой ваканции у антихристовых слуг», стали открыто говорить, что Мериканец спознался с лешатиком.
Ребятенки сильно начали его побаиваться, да, пожалуй, ни одна душа крещеная не решилась бы теперь пройти в лихое время мимо проклятущей кузницы, где еженощно до первых петухов светился адов огонь и раздавался грохот: кузница на самом обрыве высилась, а село-то под горой — оттуда хорошо видать.