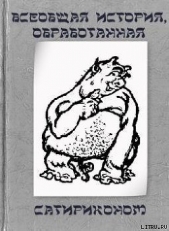Юмористические рассказы

Юмористические рассказы читать книгу онлайн
В книгу вошли лучшие юмористические рассказы крупнейших писателей-эмигрантов начала XX века. Их роднит вера в жизнь и любовь к России.
Для старшего школьного возраста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Керосином? – ужасается кухарка. – Эдакие слова произносить! Взять бы что ни на есть да отстегать бы, так небось…
– Стегайте себя саму! Отвяжитесь!
Да… значит, он берет за руку и говорит: «Отдайся мне!» Я уже готова уступить его доводам, как вдруг дверь распахивается и входит муж. «Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин и все состояние, и мы разведемся…»
– Катька! Дура полосатая! Кошка носатая! – раздался голос позади скамейки.
Катенька обернулась.

Через забор перевесился соседский Мишка и, дрыгая, для равновесия, высоко поднятой ногой, обрывал с росших у скамейки кустов зеленую смородину.
– Пошел вон, поганый мальчишка! – взвизгнула Катенька.
– Поган, да не цыган! А ты вроде Володи.
– Мама! Мама, он смородину рвет!
– Ах ты Господи помилуй! – высунулись две головы. – Час от часу не легче! Ах ты, дерзостный! Ах ты, мерзостный!
– Взять бы хворостину хорошую…
– Мало вас, видно, в школе порют, что вы и на каникулах под розгу проситесь. Вон пошел, чтоб духу твоего!..
Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения, всем по очереди, свой длинный язык, с налипшим к нему листом смородины.
Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не выходило. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему вдруг «кошка носатая»? Во-первых, у кошек нет носов – они дышат дырками, – а во-вторых, у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что это значит – «вроде Володи»? Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания.
Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами собой опускались углы рта и тоненькая косичка дрожала под затылком.
Катенька пошла к матери и сказала:
– Я не понимаю вас! Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой. Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира?
Потом пошла в свой уголок, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала изливать душу в письме к Мане Кокиной:
«Дорогая моя! Я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроились совершенно. Дело в том, что мой роман быстро идет к роковой развязке.
Наш сосед по имению, молодой граф Михаил, не дает мне покоя. Достаточно мне выйти в сад, чтобы услышать за спиной его страстный шепот. К стыду моему, я его полюбила беззаветно.
Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие: пропала масса фруктов, черносливов и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайку соседских разбойников. Я молчала, потому что знала, что их предводитель граф Михаил.
В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом: „Ты должна быть моей“. Разбуженная этим шепотом, я выбежала в сад в капоте из серебряной парчи, закрытая, как плащом, моими распущенными волосами (у меня коса очень отросла за это время, ей богу), и граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор; только глаза мои дивно сверкали…»
Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку:
– Мама! Дайте мне, пожалуйста, семикопеечную марку. Я пишу Мане Кокиной.
– Что-о? Ma-арку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать! Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтоб на Мокиных работать. Посидят Мокины и без писем!
– Только и слышно, что марку давай, – загудело из кухни. – Взяла бы хворостину хорошую, да как ни на есть…
Катенька подождала минутку, прислушалась, и когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала:
«Дорогая Манечка! Я очень криво приклеила марку и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100 000 000 раз. Твоя Катя Моткова».
Чучело
Увидела недавно в окне зоологического магазина, среди разных роскошных орлов и соколов, чучело толстой пучеглазой совы. Остановилась, пригляделась – что такое она мне напоминает? Что-то очень далекое и забавное связано вот с этим носом-крючком и выпученными глазами.
И вдруг я вспомнила: напоминает мне это чучело самые мои первые литературные шаги. Жуткие шаги и вполне неудачные.
Собственно говоря, быть писательницей никогда я не собиралась, несмотря на то что все в нашей семье с детства писали стихи. Занятие это считалось у нас почему-то очень постыдным, и чуть кто поймает брата или сестру с карандашом, тетрадкой и вдохновенным лицом, – немедленно начинает кричать:
– Пишет! Пишет!
Пойманный оправдывается, а уличители издеваются над ним и скачут вокруг него на одной ножке:
– Пишет! Пишет! Писатель!
У брата кадета нашли обрывок стихотворения:
Лесли – мы знали ее – была прехорошенькая институточка.
И еще стихотворение, очень трагическое, явно связанное с переэкзаменовкой по алгебре:
Вне подозрений был только самый старший брат, существо, полное мрачной иронии. Но однажды, когда после летних каникул он уехал в лицей, в комнате его были найдены обрывки бумаг с какими-то поэтическими возгласами и несколько раз повторенной строчкой:
Увы! И он писал стихи!
Открытие это произвело на нас сильное впечатление, и, как знать, может быть, старшая сестра моя Маша, став известной поэтессой, взяла себе псевдоним «Мирра Лохвицкая» именно благодаря этому впечатлению.
Я мечтала быть художницей. И даже по совету одной очень опытной одноклассницы-приготовишки написала это желание на листочке бумаги, листочек сначала пожевала, а потом выбросила из окна вагона. Приготовишка говорила, что средство это «без осечки».
Когда старшая сестра, окончив институт, стала печатать свои стихотворения, я иногда, по дороге из гимназии, провожала ее в редакцию. Провожала не одна, а с нянюшкой, которая несла мою сумку с книгами.
И там, пока сестра сидела в кабинете редактора (что это был за журнал – не помню, но помню, что редакторами его были П. Гнедич и Всеволод Соловьев), мы с нянюшкой ждали в приемной.
Я садилась от нянюшки подальше, чтобы никто но догадался, что она за мной присматривает, делала вдохновенное лицо и думала, что меня, наверное, и рассыльный, и кассирша, и все посетители принимают за писательницу. Вот только стулья в приемной были какие-то неладно-высокие и ноги у меня до полу не хватали. Но этот недостаток, как и короткое платье с гимназическим передником, вполне выкупался и покрывался с лихвою вдохновенным выражением лица.
В тринадцать лет у меня был уже литературный стаж: стихи на приезд государыни и стихи по случаю юбилея гимназии. В этих последних, написанных стилем пышной оды, была строфа, из-за которой много пришлось пострадать:
Этим «храмом просвещенья» сестры донимали меня целый год. Притворюсь, что болит голова, не пойду в гимназию, и начинается:
– Надя, Надя! Что же ты в храм просвещенья? Как же ты допускаешь, что там без тебя сияет правды свет?