Избранное
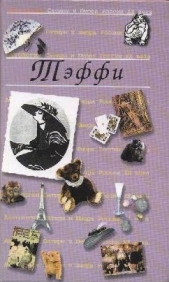
Избранное читать книгу онлайн
«Если юмор Гоголя — «смех сквозь слезы», юмор Достоевского — смех сквозь отчаяние, юмор Салтыкова — смех сквозь презрение, юмор Ремизова — смех сквозь лихорадочный бред, то юмор Тэффи, как и юмор Чехова, — смех сквозь грустный вздох: «Ах, люди, люди!» Человек человеку, в представлении Тэффи, отнюдь не волк, но, что делать, изрядный таки дурак».
Александр Амфитеатров
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Н-да-м.
Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:
— Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот… ке фер? Фер-то ке?
Действительно — ке?
[1] От фр. que faire? — что делать?
[2] Русские.
Ностальгия
Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как символ свято берегу…
Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:
— Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.
Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло.
Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.
Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.
Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа — душа, обращенная на восток.
Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим.
Умерли.
Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь.
Вот мы — смертью смерть поправшие.
Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда.
А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли и силы…
— Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому, и нечем.
Остались леса. И трава, зеленая-зеленая, русская.
Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя I'herbe[1], а не наша травка-муравка.
И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.
У нас каждая баба знает: если горе большое и надо попричитать — иди в лес, обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом, словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой!
А попробуйте здесь:
— Allons au Bois de Boulogne embrasser Ie bouleau![2]
Переведите русскую душу на французский язык…
Что? Веселее стало?
Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:
— Наша речка, русская…
Ффью! Вот тебе и Третий интернационал!
Как тепло!
Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет.
У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена. Плавна, самая настоящая — толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.
Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню.
Там француженка кухарка готовит поздний французский обед.
— Asseyez-vous[3], — подставляет она табуретку. Нянька не садится:
— Ни к чему, ноги еще, слава богу, держат. Стоит у двери, смотрит строго:
— А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что!
— Я в суп кладу селлери и зеленый горошек, — любезно отвечает кухарка.
— Вот то-то и оно… Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя… А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак — раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.
— Четыре франка кило, — возражает кухарка.
— Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать — клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!
— Le president de la republique?[4] — удивляется кухарка.
Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о Крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.
Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушьим снам — все о том же.
Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.
Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют.
— Ну конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!
Привыкла к «пределам» человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.
Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставших. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь:
— Что же это? Ведь этого же не может быть!
Может.
[1] Трава (фр.).
[2] Пойдемте в Булонский лес обнять березу! (фр.)
[3] Садитесь (фр.).
[4] Президент республики? (фр.)
Свои и чужие
В наших русских газетах часто встречаются особого рода статьи, озаглавленные обыкновенно «Силуэты», или «Профили», или «Встречи», или «Наброски с натуры». В этих «силуэтах» изображаются иностранные общественные деятели, министры или знаменитости в области науки и искусства.
Представляют их всегда интересными, значительными или в крайнем случае хоть занятными.
О русских деятелях так не пишут.
Уж если увидите в газете русский «профиль», так я этот профиль не поздравляю. Он либо выруган, либо осмеян, либо уличен и выведен на чистую воду.
Мы странно относимся к нашим выдающимся людям, к нашим героям. Мы, например, очень любим Некрасова, но больше всего радует нас в нем то, что он был картежник.
О Достоевском тоже узнаем не без приятного чувства, что он иногда проигрывал в карты все до последней нитки.
Разве не обожаем мы Толстого? А разве не веселились мы при рассказах очевидцев о том, как «Лев Николаевич, проповедуя воздержание, предавался чревоугодию, со старческим интересом уплетая из маленькой кастрюлечки специально для него приготовленные грибочки»?
Был народным героем Керенский. Многие, я знаю, сердятся, когда им напоминают об этом. Но это было. Солдаты плакали, дамы бросали цветы, генералы делали сборы, все покупали портреты.
Был героем. И мы радовались, когда слышали лживые сплетни о том, что он, мол, зазнался, спит на постели Александра Третьего, чистит зубы щеткой Димитрия Самозванца и женится на Александре Федоровне.
Был героем Колчак. Настоящим легендарным героем. И каждый врал про него все, что хотел. И все это — любя. Странно мы любим, правда? Не ослеплено и не экстазно.
А разве не любим мы Россию, братьев наших? А что мы сами говорим о них?
Чужая Шарлотта Корде приводит нас в умиление и поэтический восторг. Оттого, что она чужая, и оттого, что на ней белый чепчик, а не русский бабий платок. И как мы рады, что кишат кругом нас спекулянты, и трусы, и прямо откровенные мошенники, рвущие, как псы, кусок за куском тело нашей родины. Рады потому, что можем сказать: «Вот каковы они все оказались!»
О нашей русской Шарлотте Корде мы бы легенд не сложили. Нам лень было бы даже имя ее узнать. Так, мимоходом, по привычке, справились бы:
— Ас кем она, собственно говоря, жила?
На этом бы все и кончилось.
Трагические годы русской революции дали бы нам сотни славных имен, если бы мы их хотели узнать и запомнить.
То, что иногда рассказывалось вскользь и слушалось мельком, перешло бы в героические легенды и жило бы вечно в памяти другого народа. Мы, русские, этого не умеем.


























