Избранное
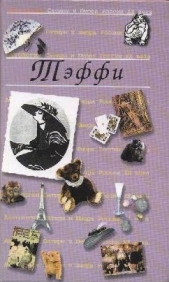
Избранное читать книгу онлайн
«Если юмор Гоголя — «смех сквозь слезы», юмор Достоевского — смех сквозь отчаяние, юмор Салтыкова — смех сквозь презрение, юмор Ремизова — смех сквозь лихорадочный бред, то юмор Тэффи, как и юмор Чехова, — смех сквозь грустный вздох: «Ах, люди, люди!» Человек человеку, в представлении Тэффи, отнюдь не волк, но, что делать, изрядный таки дурак».
Александр Амфитеатров
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это перевод, — сказал Петрусов. — В подлиннике, кажется, не так. В подлиннике что-то насчет его муттер, что у нее золотое платье.
— Еще того пуще! Ну какое дело мальчишке, какие у старой ведьмы туалеты? Сам-то лесной царь — дядя не молоденький, а мамаше, наверное, лет под сто. Тьфу! По-э-тическая фантазия! Ты мне красоту покажи, а не то что! Сулит мальчишке старую лешачиху. А папенька скачет и ничего не слышит.
— Это намек, что родители всегда обо всем узнают последние и не знают, что у них за спиной делается.
Саблуков нахмурил брови и понизил голос:
— Нет, миленький мой, здесь похуже. Здесь хотели дискредитировать идею. Какую? Идею царя. Вот, мол, какими делами цари занимаются. Живут в перлах и безобразничают. Большевизм, дорогой мой. Большевистская пропаганда. А вся эта «хладная мгла», которая мчится! Это все соус, чтобы не сразу в глаза бросалось. Большевизм, друг мой!
— Эка куда хватили! — недоверчиво сказал Петрусов.
— Да, да, да! Нечего «эка». Тут уж не «эка». И все у нас так. Помню, актрисы на концертах декламировали:
Я еще тогда обратил внимание. «Позвольте, — говорю распорядителям, — какой же это милый властелин, который гложет»? Это, говорят, у Апухтина, а мы ни при чем. Ни при чем! Не надо допускать. А вы тоже скажете — «эка»! Вот и погубили Россию. И радуйтесь.
— Ну это, вы знаете, уж…
— Ничего не знаю и знать не хочу, — оборвал Саблуков. — И вообще на эти темы с вами говорить не желаю. У меня еще есть идеалы в душе.
Саблуков встал.
Гулять по дороге — жарко. Идти в лесок — лень. Он снова опустился на место. Посопел и сказал мрачно:
— А не думаете ли вы, положа руку на сердце, что вся Европа летит к черту?
«Началось!» — подумал Петрусов. Но гулять по дороге было жарко, а идти в лесок было лень, поэтому он вздохнул и ответил кротко:
— Разве?
И закрыл глаза.
Явдоха
А. Д. Нюренбергу
В воскресенье Трифон, мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо:
— От сына з вармии.
Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала:
— А може, и не мне?
— Почтарь сказал — Явдохе Лесниковой. Бери. От сына з вармии.
Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями:
— А ты почитай, може, и не мне.
Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его:
— Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут.
Так и уехал.
Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.
Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. А старуха длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину — не оставаться же на улице.
Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ.
Потом пошла к кабану.
Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.
И думала любовно:
«Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье порожденье, так уж тогда не почешешься».
И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала старым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.
Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, слава богу, как следует.
Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет.
Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала;
— Сын у меня, Панас. Прислал письмо з вармии.
После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.
Встала старуха, посмотрела в щелку — идут солдаты, много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?..»
Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село.
Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога, липкая, вязкая, была словно ступой истолочена, и трава придорожная к земле прибита.
«Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!»
Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.
На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.
В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.
Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.
Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие, заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.
— Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гай! Го-о-о!
Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «гой-гэй-го-о-о!». Уж очень гудят.
Потискалась Явдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.
— У меня сын, Панас, — сказала Явдоха. — Сын письмо прислал з вармии.
Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.
Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.
Вдруг девки замолчали — сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, на средину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.
Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.
Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все:
— Бабка Сахфея, поскачи! Бабка Сахфея, поскачи! Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном чалмой, сердито отмахивалась, трясла головой — ни за что не пойдет.
— И чего они к старой лезут? — удивлялись те, что не знали.
А те, что знали, кричали:
— Бабка Сахфея, поскачи!
И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу:
— Ну ладно. Дайте у иконы попрощаться.
Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза:
— Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!
Повернулась, усмехнулась:
— Замолила грех.
Да и было что замаливать! Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула — и-их!
Выскочил долговязый парень, закренделял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит. На Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей череды, ждет, пока парень до нее допрыгнет. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо, только на нее. А вот дошел черед — повернулась, взметнулась и пошла — и-их!
Знала старуха, что делала, как перед иконой «прощалась». Уж за такой грех строго на том свете спросится.


























