Люди мимоезжие. Книга путешествий
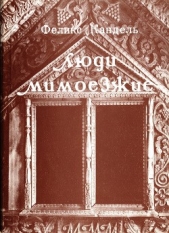
Люди мимоезжие. Книга путешествий читать книгу онлайн
Роман являет собой своеобразный социальный срез общества, вызывая интерес и сочувствие к каждой как бы мимоходом рассказанной судьбе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А мужичок осмелел:
– Решайте, – говорит. – Только по-быстрому. Не то тут останетесь. До весны.
– Это еще почему?
– Провалюсь скоро. Кто вас выведет?
– Кто-никто.
Толкаем дальше. Но уже без охоты.
– Имейте в виду, – торопит. – У нас очередь. Наплыв желающих. Не вы одни. Стал бы возиться, да прикипел к вам.
– Откипай давай.
И посвистели чуток. Складно да ладно.
Напоследок хоть покуражиться.
Забежал вперед. Встал на пути. Руки раскинул.
– Вы же видели. Вы всё видели: ничего не утаил... Нет разницы между чертовщиной и жизнью. Без вас нет и нас. Но без нас и вы полиняете. Так стоит ли держаться за бессмертную душу? Я вас спрашиваю: стоит или не стоит?! Отвечайте немедленно!
Замедлили. Плечом поддаем без пользы. Раскисаем в сомнении.
Тут хлебом пахнуло.
Гордо и торжествующе. Широко и победно.
Через заговоры, блаз, мороку, сухоту, порчу, изурочанье.
Будто насовсем откинули заслонку, поддели его на лопату да и пошли кидать на стол, на холстинные полотенца, каравай за караваем, что радость за радостью. Пышные. Темные. Пропеченные. Густо запашистые. Хлеб на стол, и стол престол.
Туча уходила.
Гроза утихала.
Гром выдыхался.
Молнии не доставали до земли.
И полегчало заметно, будто пошло под уклон.
– Я вас в последний раз спрашиваю! – срывался на визг зыристый мужичок и отступал задом. – Стоит ли держаться за бессмертную душу при всеобщем непотребстве? – И закончил патетически: – Нет, граждане, не стоит!
– Шишига прав, – сказал на это мой сокрушенный друг .
– Прав, – говорю. – Куда денешься?
– Раз-два, взяли!
И мы переехали сердешного.
ГЛАВА ПЯТАЯ
КТО ВЕТРОМ СЛУЖИТ, ТОМУ ДЫМОМ ПЛАТЯТ
1
Вот начинал я рассказ, – осилю ли?
Вот продирался с трудом, – а надо ли?
Вот подступаю к концу, – а не грустно ли?
Рассказ ли это? Я ли? Жизнь ли моя?
Тишь в миру.
Благодать.
Покой безбрежный.
Рассвет пугливый.
Прогал в облаках.
Мы шли по дороге, ободранец с обшарпанцем, волглые, сырые, иззябшие, в ботинках хлюпает, под рубахой мокро, и волокли на лямках, по бурлацки, бесполезную теперь машину. Стекла нет. Колесо спущено. Капот промят. Бока исцарапаны колючками. Внутри плещется вода. И парок курился от наших голов: просыхали на холодке.
– Это кто же тащит, – говорю ехидно, – да чью же машину?
А он – грубо:
– Ишь. фря какая! Еще дражнится... Пришел не зван, поди не гнан.
– Ах, – говорю, – ах-ах! Озаботили мы вас, хозяюшка, своим присутствием. Нынче уж недолго осталось: потерпите чуток.
– Вот я его чукну, – погрозился, – и концы в воду.
– Чукни, – говорю. – Чукни, милый. Нашелся, наконец, человек, который меня ненавидит. Вот радость-то!
Присвистнул горестно.
Тогда и он присвистнул: горестнее моего.
Поежился. Покрутил головою. Постыдился заметно.
– Куда идем? – говорю помягче. – Куда заворачиваем?
– Иду туда, – отвечает устало, – куда голова перевесила.
– А там чего?
– А там ничего. Встать, главное, пораньше да шагнуть подальше. Зуд утишить. От себя оторваться.
– Дудки, – говорю, – мужчина. Не будьте ребенком.
И посвистел в пол-охоты.
Тогда и он посвистел, плечом наддал посильнее.
В ответ и я наддал.
Свистим, заливаемся, трели выводим, тянем одну лямку.
– Нам, – говорю, – с тобою на одном колу вертеться.
– Не скажи, – отвечает. – У всякого свой кол. – Бормотнул в ясновидении: – И низойде в годину овую поветрие зельно на человецы страны тоя и погибоша и умроша людие, аки злак дольный, лезвием серпа усекновенный... Но это уже не для тебя.
Тянем дружно.
Свистим согласно.
Бегучей слезой обливаемся.
Всяк по себе плачет.
Светало заметно по кромке. Лес просветился по макушкам. Мокрые колосья у дороги прогнуло до земли. Охолодало с ночи, осень пришла за грозою: жди заморозков. Будут на рассвете ломкие травы, седина на листе, пленочка льдистая, паутинка остекленелая, грибы встанут к утру упругие и промерзшие, солдатами на ночном посту. Клюква созреет, рябина осладится, налетят сытые снегири, станут поклевывать лениво, с выбором. Но это уже не для меня.
– Стоп! – сказал мой озабоченный друг, и машина накатилась на наши пятки. – Проверка. На вход в деревню. Старица Софья три года сохла. Попрошу продолжить.
– Не пила, – говорю, – не ела, всё на небо смотрела.
– Отгадка, – сказали хором. – Труба на крыше.
Впряглись снова.
Мы входили в деревню, в ее широкую, травой проросшую улицу, как в раскидистые объятья. Лужи стояли с ночи. Куры копошились брезгливо. Собака гавкнула несмело и поджала хвост. Голубь дорогу уступил. Вкатили машину, встали, сбросили с плеча лямку.
– Чуешь? – спросил мой озабоченный друг и округлил глаза.
– Чего?
– Да хоть чего.
Прикинул:
– Не...
– И я не чую... Нет напряжения.
Тогда и я округлил.
Избы редкие. Палисады цветущие. Яблоки повисли на яблонях. Корчаги на плетнях. Бабы выгоняли коров в стадо, истово шептали вслед: «чтоб со двора шли-играли, с поля шли-скакали...», а те выступали важно, вперевалку, каждая звякала боталом. Бабка глядела из ближнего окна, подперев рукой голову, поздоровалась первой. И запах хлебный, крутой, торжествующий так и пёр на нас отовсюду стеной сытости.
– Бабуля, – говорим, – хлебца не дашь?
А сами дрожим в сырости.
– Дам, – говорит. – Чего ж не дать? В избу идите.
Упрашивать не надо.
Пол выметен. Половики вычищены. Стекла протерты. Занавески постираны. Печь побелена. Изба протоплена. Кровать в покрывале. Герань в горшках. Лук под потолком в связках, от стены к стене, золотыми елочными шарами. И на столе, покрытые полотенцами, лежат караваи, один в один, сытыми поросятами, крутые бока выпячивают с краев.
– Раздевайтесь, – велит. – Всё сымайте. Сушить буду.
Уговаривать не надо.
Сбросили мокрое, сырое, заскорузлое, переминаемся в трусах.
А она уж тащит с печи: каждому штаны, каждому телогрейку, валенки прогретые – каждому.
Натянули, запахнулись, ноги вдели в тепло. У него руки торчат из рукавов, у меня штаны под горлом крепятся. Благодать Божья!
– Ах, – говорим, – ублажила, бабуля! Утешила и обогрела. Хлебца теперь давай.
И к караваю тянемся.
А у нее – губы поджатые. То ли сердится, то ли обижается, то ли фасон держит.
– Цыть, – говорит, – басурмане! Руки ополосните прежде. Хлеб, небось, не помои.
Побежали. Ополоснулись. Сели за стол чинно. А руки сами тянутся – обломить корочку.
– Молитву, – говорит, – знаете?
– Не...
– А чего знаете?
– Чего... – говорим. – Ничего не знаем. Таблицу умножения, и ту с трудом.
– Я уж за вас.
Взяла каравай в руки, качнула на весу с почтением, сказала строго:
– Бог на стене, хлеб на столе.
Потом нам протянула:
– Просим нашего хлеба есть.
Дальше было тихо. Только на зубах пищало да за ушами трещало. Мякишем давимся, корочкой хрустим, рвем, обрываем, с двух кусков кусаем. Теплый, пышный, ноздреватый: голову ведет от запаха.
А у нее опять губы поджатые.
– Цыть, нехристи! Хлеб-то уважьте.
Отняла каравай, пошла за ножом, а мы глядим жадно, с испугом: не отдаст еще.
– Конечно, – говорю печально, – всем сытым быть, так и хлеба не станет.
А друг мой – еще печальнее:
– Каков ни есть, а хлеб хочет есть.
Положила на дощечку, на ломти развалила, нам пододвинула:
– Ешьте. Матушка рожь всем дуракам сплошь.
– Ай да бабуля! Ай да красавица!
И заработали зубами. Один ломоть кусаем, другой про запас держим, на третий глаз кладем: перехватить поскорее.
– Хлебушек! – повело моего друга. – Ситничек! Пирование, столование, толстотрапезная гостьба! Бабуля, молочка не дашь?


























