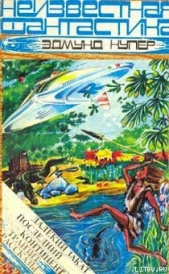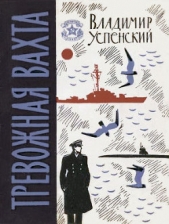Расстрелять! – II

Расстрелять! – II читать книгу онлайн
Без бурлескных рассказов Александра Покровского невозможно представить ландшафт современной словесности. Новое слово, новый юмор, новые ситуации... Все это 'проберет' не только былого волкодава-подводника, но и просто штатского персонажа, не потерявшего чуткость к извивам и чутье на закруты великого, могучего, соленого и прожженного родного языка. Читая Покровского, мы плачем, радуясь, что еще живы, – и смеемся тому, что пока еще способны плакать по тому же поводу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Александр Леонидыч! – говорили ему горячо, увлеченно подталкивая к выходу. – Вы должны выйти и сказать ему, что это не химики. А то опять на нас все шишки… Скажите ему, что это штурмана.
– Да вы что! – отбивался начфак, стараясь за кого-нибудь задержаться руками. – Вы что, отпустите! С ума посходили все, что ли? Хотите, чтоб я умер на месте от инфаркта? Да черт с ним… отпустите… вы что?..
Так начфака и не смогли выпихнуть. Хотя толкало немало человек.
Главкома тем временем успокоили и повели его в лабораторный корпус.
Все стихло; профессорско-преподавательский состав потихоньку растекся; кусты застыли в успокоении; и все на этом свете замерло до следующего посещения главкома.
Из наших все отсидели. Командир у нас ненормальный, как многие считают, и поэтому наши отсидели все. Только я не сидел. Механик сидеть на губе не должен, иначе все на корабле встанет раком и развалится. А что такое дизель-электроход, вам, наверное, ясно: это такая кака – описать невозможно. Достаточно сказать, что когда мы всплываем на зарядку батарей и открываем крышку люка, то вверх – метров на пятнадцать – вырывается столб дерьма. В смысле запаха. Так что сажать меня нельзя. Правда, сутки ареста мне объявляют регулярно, но сажать не сажают. Кроме меня, отсидели все. Командир у нас несколько не в себе насчет воинской дисциплины, так что место на губе в этом флагманском крысятнике – городе Полярном – для нашего экипажа до недавнего времени имелось. Теперь хором осваиваем Североморск.
– Продлите моему врачу пару суточек, – просит командир по телефону, – у меня штурман на подходе, он тут дела закончит и сменит врача. А этому моему охламону парочку суточек вкатайте.
Да-а… У нас все по уставу. Например, о своем приближении со стороны моря командир любит уведомить базу. Только Сет-Наволок минуем, а он уже семафорит на берег командиру базы – мол, привет! – и радует его указаниями относительно того, как его встретить, что из вкусненького приготовить и во сколько баньку истопить.
Мат мчится по всей семафорной линии.
– Вот сволочь! – говорит командир базы насчет нашего капитана и не топит баню.
Ну, с базой командир сделать ничего не может, поэтому наших сажает регулярно.
Экипаж его ненавидит. Даже не здороваемся. Давно это началось.
Стоим на подъеме флага, он подходит:
– Здравствуйте, товарищи матросы!
И громадная тишина в ответ. Еще раз:
– Здравствуйте, товарищи матросы"!
Здравствуют, по молча. Все смотрят в сопки. Тогда он подходит к офицерам:
– Здравствуйте, товарищи офицеры!
И полная, знаете ли, солидарность. Потопчется и…
– Все вниз!..
И пошел крутить, кишки наматывать. И старпом Антипков у нас сидел постоянно, просто прописан был на губе. Либо на губе, либо на корабле. На берег он попадал редко – вы же знаете эту фразу из устава: «Частое оставление старпомом корабля несовместимо с его службой». Ну вот. Но уже если попадал…
Водка тогда в Полярном продавалась в трехлитровых бутылях, и называлась она «антиповкой». А 1100 граммов спирта, как справедливо отмечено в Большой Советской энциклопедии, абсолютно смертельная доза для человека. Старпом любил поставить «антиповку» на стол и зачитать вырезку из Большой Советской энциклопедии. После чего он выпивал ее до последней капли и в состоянии повышенной томности падал в салат. Отволакивали его на корабль и забрасывали в каюту. Когда он приходил в себя, он подписывал все, что ему подсовывали. Помощник рисовал красиво, по-старославянски, на бумаге: «Я Антипка, государь, сволочь и последний дурак…» – и подсовывал ему. Старпом подмахивал не глядя, а потом эту штуку ему на дверь приделывали.
Когда старпом был трезв, он был большая умница, математик, аналитик и философ, и торпедная атака у него шла исключительно в уме и па пять баллов, а когда он бывал пьян – это был большой шутник. Гауптвахту в Полярном ликвидировал. Его там знали, как мама папу, и в камеру не сажали. Он просто шлялся по территории.
А каждая губа, попятное дело, имеет свою ленкомнату, чтоб вести среди арестантов разъяснительную работу.
Антипка шлялся-шлялся и от скуки зашел в эту избу-читальню, в этот «скот-просвет-руум». Там он прочитал почти всю центральную прессу, впитал – «та-ся-зять» – в себя дыхание страны, затем сложил все подшивки горой в середине и поджег, после чего объявил гауптвахте: «Пожарная тревога! Горит ленинская комната!» – и возглавил борьбу за живучесть.
Все бегали как ненормальные, икали, искали багры, ведра эти наши треугольные, ублюдочные хватали, разматывали шланги, пытались подсоединить их к гидранту. В общем, гауптвахта сгорела дотла, а Антипку отвезли в Североморск и прописали там на гауптвахте навсегда. Сжечь ее невозможно – она каменная.
Так мы из Полярного и переехали в Североморск. И теперь у нас там постоянное место жительства. И первым делом после старпома командир там врача, конечно, прописал – ублюдок потому что, прости меня Господи.
– Товарищ капитан второго ранга, разрешите доложить?
– Да!
– Капитан-лейтенант Петров дежурство по кораблю принял!
– Товарищ капитан второго ранга, старший лейтенант Недомурзин дежурство по кораблю сдал.
Мы с Геней Недомурзой докладываем старпому о «приеме-сдаче» дежурства. Сначала я, потом – он. Я – о приеме, он – о сдаче. Наоборот, сами знаете, никак нельзя. Потому что если он доложит, что сдал, а я еще не доложу, что принял, и тут – раз! – и что-нибудь взорвется – у нас это запросто, – и корабль в этот момент никто, получается, не охранял. И с кого спросить? Спросить не с кого! А спросить хочется, потому что придется с кого-то в конце концов спрашивать.
– Замечания?
У кого же нет замечаний! Замечаний у нас вагон. И старпом о них знает. И вообще все обо всем знают, но если я сейчас скажу, что замечания есть, то как же я принял корабль с замечаниями, а если скажу, что замечаний нет, то что же это за прием корабля, если нет замечаний? Все это, как всегда, вихрем проносится в уме, после чего ты говоришь:
– Отдельные замечания устранены в ходе сдачи дежурства.
Вот такая формулировочка. И старпом кивает. Кивает и неотрывно смотрит на Геню. Геню он ловит на каждом шагу. И гноит нещадно. И все норовит его, даже походя, уколоть, ущипнуть, удавить. А сейчас он его просто убьет. И не потому, что Геня идиот, просто некоторые могут все это от себя отодвинуть, а Геня не может. Подумаешь, старпом на тебя смотрит. Ну и что? Он на всех так смотрит. Но Геню он чует. И Геня трусит. Он становится сразу мелким, без плеч, без шеи, взъерошенным, отчаянно потным: на лбу будто волдыри от ожога, так потеет, а в зрачках – атропиновый ужас, мыльный-пыльный.
– Ну-у?! – говорит старпом медленно и смотрит на Геню. – И когда же вы станете человеком? Когда от вас появится хоть какая-то отдача, но не в виде дерьма?! Когда на вас можно будет корабль оставить? Когда я засну, а перед сном улыбнусь, подумав, что вы на вахте и все спокойно? Почему я все время должен за вами с совком ходить и говно ваше влет подхватывать? Я же не успеваю его подхватывать на самом-то деле. Вы же валите и валите. Когда я увижу перемены в вас, которые меня поразят?..
Старпом все говорит и говорит, а потом он расходится и уже орет. Но я лично его не слышу. Я смотрю на Геню. Жаль человека, сейчас от него вообще ничего не останется – вонючей лужей растечется на королевском паркете. В лице его происходит масса всяких движений, вперемешку со вздрагиваниями: там и страх, и стыд, и срам, и какие-то потуги – не то совести, не то самолюбия. Отдельными позывами отмечены рудименты гордости, доблести, осклизлые останки чести. Мышцы на лице его как-то быстро – словно домино на столе руками размешали – вдруг собирают по кусочкам то эмоцию страха, то какого-то недоделанного достоинства, которое немедленно обращается в стыд. И кажется, что Геня вот-вот возмутится. Вот-вот это произойдет. Нет! Его до конца не растолочь, нашего Геню, не стереть, не забить! Шалишь!