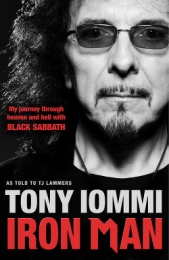Плач по царю Ироду

Плач по царю Ироду читать книгу онлайн
Эта книга выходит к юбилею…
Есть юбилеи славы и побед, а есть юбилеи позора и мук, юбилеи концлагерей и газовых камер.
Но даже у Стены Плача время от времени слышится смех… Потому что жизнь — продолжается.
Я ненавижу антисемитизм. Я ненавижу шовинизм. Я ненавижу национализм, определяющий достоинства человека по крови. Потому что в этом случае кровь рано или поздно прольется — иначе не определишь ее достоинства. Хорошо сказал Юлиан Тувим: людей объединяет не кровь, текущая в жилах, а кровь, которая течет из жил. Он это сказал о евреях, но это касается всех людей. Объединяться по крови, которая спокойно течет в жилах, преступление.
Феликс КривинВнимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марк Семенович любил этих людей. Своей семьи у него не было, и они были вроде его семьи. Хотя их, конечно, не было, но они вроде как были. Ему казалось, что он живет вместо них. Не только в квартире, но и вообще в жизни.
Он восстанавливал их жизнь — по буквочкам, по царапинкам. Детский рисунок. Домик. Кто жил в этом домике? Может, его хозяин так и остался в нем жить, и никто никогда его оттуда не выселит.
Книжка поэта Льва Квитко заложена на странице со стихотворением, посвященным Климу Ворошилову. «Климу Ворошилову письмо я написал: «Товарищ Ворошилов, народный комиссар!» Ответ на письмо пришел не скоро, причем по никому не известному адресу. Застрелили детского поэта от имени Клима Ворошилова и его народного комиссариата.
А поэт и после смерти продолжал рассказывать, как еврейский мальчик написал Климу Ворошилову письмо, как обещал быстро подрасти и пойти служить в Красную Армию. А Климу Ворошилову было в высшей степени наплевать — и на него, и на его стихи, и, может быть даже, на Красную Армию: ему одного хотелось — подольше усидеть на коне. Раз уж усидел на войне, было бы обидно слететь с коня в мирное время.
Поэт писал для детей, но от детей в квартире осталась только черточка, отмечавшая на двери рост ребенка. Ребенок давно вырос (если вырос), а она все показывает его детский рост.
Марк Семенович берег эту черточку. Ему казалось: ее стереть — все равно, что убить ребенка. Иногда он придвинет кресло, сядет против черточки и сидит. Она-то невысоко от пола, хоть под стол пешком иди. Но она не идет. Смирная такая, не то, что живые дети.
А Марку Семеновичу и она кажется живой, и он с ней разговаривает, наставляет на ум, а то, случится, и сделает замечание:
— Ну-ну, ты уж не очень, не балуй!
А она и не балует. Это ему только кажется.
Хорошие люди жили в квартире, теперь это уже можно сказать. А раньше было нельзя. После того, как их увели, квартиру даже опечатали.
Теперь это называется: опечатка.
Почему в нашей жизни так много опечаток? Или мы такие неграмотные, или безразличные ко всему? Строили, строили, глядь — опечатка. Стали рушить — опять опечатка. Ругали — опечатка, хвалили — опечатка. Где он взялся на нашу голову, этот первопечатник, придумавший печать!
В день новоселья квартиру распечатали, как бутылку шампанского, и Марк Семенович посидел с Николаем Гавриловичем за столом. Это был очень большой стол, который ни внести, ни вынести из квартиры было нельзя, вероятно, его встроили в здание еще во время строительства.
Николай Гаврилович, которому и прежде доводилось бывать в этой квартире, сообщил, что стол зовут Прокофий Лукич Отрубятников. Так его назвали в то время, когда на нем не водилось ничего, кроме отрубей, а про кофий и вовсе говорить нечего. Шутник он был, Николай Гаврилович, и как его только держали на его конспиративной службе!
Марка Семеновича он называл сокращенно Маркс, а себя — эН Ге, если немножко продлить, получается Энгельс. Вот так они и сидели за столом, как сиживали, бывало, Маркс с Энгельсом, только занятия у них, конечно, были разные. Пусть бы они попробовали придумать новый марксизм!
Но — шутил Николай Гаврилович или не шутил — хорошо уже было то, что в квартире появилась еще одна живая душа — Прокофий Лукич Отрубятников. Он присутствовал на всех конспиративных встречах, но, конечно, ничего не рассказывал. Хотя свое мнение имел, и оно не всегда совпадало с мнением Николая Гавриловича, не говоря уже о Марке Семеновиче, который вообще не имел допуска к этим встречам.
Особенно нравилось Прокофию Лукичу, когда Николай Гаврилович встречался с Элеонорой Степановной. Когда она появлялась, Отрубятников встречал ее, как истинный кабальеро: накинув скатерть, как плащ, и стараясь покрепче держаться на ногах, чтобы не выдать своего малопочтенного возраста. При этом он прятал надпиленную ногу — след остался с тех пор, когда его в гражданскую хотели распилить на дрова, но потом расхотели и оставили жить в надпиленном состоянии. С тех пор при гостях он всегда старался поджать ногу под скатерть, но она не поджималась, поскольку была повреждена. Поджимать нужно было и другую ногу, на которой в гражданскую какой-то заезжий анархист нацарапал нехорошее слово, и третью ногу, треснувшую от старости, — Боже мой, когда ты уже в таком возрасте, просто не знаешь, что раньше поджимать!
Ноги Элеоноры Степановны не были ни надпилены, ни надтреснуты, они понимали, что ласкают глаз, и стояли прямо, когда хозяйка их сидела за столом, состязаясь между собой в красоте и призывая всех, кто глядит под стол, быть судьями в этом поединке. А то вдруг, не довольствуясь пешим состязанием, одна нога вскакивала на другую, как лихой всадник на норовистого коня, при этом всадник долго раскачивался, принимая решение, скакать ли ему, или просто погарцевать на месте. И вдруг — бросок! — и конь уже оседлал всадника и тоже раскачивается, потому что коню принять решение еще трудней. Отрубятников думал, что, наверно, это и есть молодость, когда всадник седлает коня, а конь — всадника, когда хочется скакать куда-то, но не знаешь куда, потому что знание приходит с годами.
Он огорчался, когда Элеонора Степановна вставала из-за стола, и даже начинал ее ревновать — сначала слегка, а потом все больше и больше. Он ревновал ее и к стулу, и к креслу, и к комоду, когда она разглядывала стоявшее на нем зеркало, а вскоре ему пришлось ревновать ее к кровати с никелированными набалдашниками — так далеко зашли конспиративные дела. До него никак не доходило, что не может воспитанная девушка, придя в гости, все время проводить за столом. Даже за таким столом, каким был Прокофий Лукич Отрубятников.
Марк Семенович ничего не знал об этих конспиративных делах, хотя у него самого начинались дела, чем-то отдаленно похожие на эти.
Вдруг из пучины лет стали выплывать подруги его молодости. Столь длительное пребывание в пучине наложило на них свой естественный отпечаток, но они этого не замечали, не хотели замечать и делали вид, будто лет этих вовсе не было. Они являлись, как посланцы его молодости, — жаль, что слишком долго они были в дороге.
Но старушки из молодости приезжали в Москву не за прошлым. Они приезжали за продуктами и останавливались у Марка Семеновича не для осуществления давних надежд, а просто потому, что им негде было остановиться. В Москве очень большое движение, — может быть, потому, что совершенно негде остановиться. Двигайся сколько хочешь, а захочешь остановиться — свободных мест нет.
Старушки приезжали ненадолго — чтоб продукты не испортились. Они разворачивали карту Москвы и склонялись над ней с видом Наполеона, которого Кутузов оставил без пропитания. Они ругали Кутузова, совершенно не заботясь о правилах конспирации, они считали, что в этой квартире можно себя не стеснять, — очень уж им нравилась эта квартира.
Единственное опасение, которое выражали старушки из молодости, заключалось в том, что квартира пропадет. Когда придет время, а тут уж ничего не поделаешь, рано или поздно, время приходит всегда, квартира пропадет, говорили старушки из молодости.
И не без основания. Вот напротив, через дорогу, учреждение, — ведь оно когда-то тоже было квартирой и, как всякая квартира, было рассчитано на счастливую семейную жизнь. И вдруг туда въезжает учреждение. В те времена учреждения множились быстрей, чем люди, потому что множились они не от любви, а самым легким способом — распоряжением сверху. Может быть, там, на верху, считали, что управлять учреждением легче, чем людьми, и, возможно, мечтали о тех временах, когда в городе совсем не останется людей, а будут одни учреждения. Учреждения будут перезваниваться между собой, переписываться и строить на земле всеобщее учрежденческое счастье.
Но людям хочется строить семейное счастье, а не учрежденческое, и Элеонора Степановна была весьма огорчена, узнав, что квартира не принадлежит Николаю Гавриловичу, что он ее занимает лишь на время коротких конспиративных встреч. Потому что даже за время этих коротких встреч Элеонора Степановна привыкла к этой квартире. А главное, привыкла к мысли, что будет жить в этой квартире. И тогда она пришла к Марку Семеновичу под каким-то видом — то ли ошиблась дверью, то ли передала от кого-то привет… Это был тот период в жизни Марка Семеновича, когда им начали интересоваться, но исключительно ради квартиры.