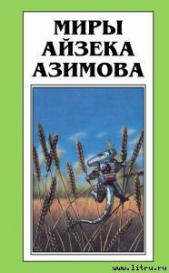Как говорил старик Ольшанский...

Как говорил старик Ольшанский... читать книгу онлайн
Жизнь одного послевоенного киевского двора глазами современника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Босоногая, голопузая детвора, да и мы тоже, буквально обалдевали от счастья во время этих «водных процедур», или «водяных феерий», как их называл Голубь. А когда от перчатки оставались одни лишь куски резины, то и они шли в дело. Двумя руками резину слегка растягивали, засасывали на вдохе ртом и образовавшийся шарик зажимали зубами. Теперь оставалось только несколько раз перекрутить вокруг оси оставшуюся снаружи резину и вытащить изо рта мокрый, хрустящий, прозрачный, переливающийся всеми цветами радуги шарик… Дальше, зажав его тремя пальцами за шейку, можно, резко отпустив, «лопнуть» его на чьем-нибудь лбу, или выстрелить им во время урока, стукнув об парту, и т.д.
Старик Ольшанский, глядя на эти забавы, часто говорил:
— Это все-таки лучше, чем бросаться бутылками с карбидом…
— Мишенька, голубчик, расскажи еще за Бендерского, — просит Маня Мирсакова.
— Ой, тетя Маня, Бендерский, — это директор «Красного резинщика». Его не надо путать с Остапом Бендером…
— Ой, Миша, не начинай, вон идет тетя Клара, мы у нее спросим, что с Абрашей.
… Она была похожа на черный рояль. Такая же приземистая, такая же широкая, на таких же коротких толстых ногах. Зубы большие и желтые, как клавиши, на которых играли почти сто лет. А когда она вздыхала полной грудью, то казалось, что крышка рояля приподнимается…
— Клара, что у Абраши?
— Ой, Маня, у Абраши то же самое, что у Станиславского, — гордо заявила Клара.
— Что именно? — спросил старик Ольшанский.
— Язва!
— Как вам нравится эта дама? — спросил Миша Мирсаков, обернувшись к Ольшанскому.
— Э, чем брушной тиф… — не закончил мысль старик Ольшанский.
— Или фининспектор…
— При чем тут фининспектор?
— Вон он идет по мою душу… По мои сотни идет… Костка ему в горло! Все, концерту не будет… Другим разом.
— Ой, расходитесь уже, а то он подумает, что вы все Мишины клиенты!.. Клара, вы слышите, не делайте тут очередь…
— Ой, подождите, не пихайтесь, там у вас кто-то кричит!
— Ой, идите уже, это Лазик поет.
— Поет? — сделав круглые глаза, спросила Клара.
— Он завсегда так поет, когда появляется фининспектор, — тихо сказал Миша Мирсаков.
— Зачем? — спросила Клара.
— Зачем — зачем… Чтобы Шмилык тоже знал, что идет фининспектор, — раздраженно сказал старик Ольшанский.
— Ну, хорошо, а если…
— Ой, Клара, закрой уже рот, простудишься! — не выдержал Миша Мирсаков. — Держись от меня подальше, чтобы я мог тебя уважать.
И она ушла, унося с собой дурманящий букет запахов селедки, керосина, пота и «Белой сирени»…
Художник Завадский нарисовал огромные щиты, на которых по заснеженному лесу ползет человек в летном шлеме, а внизу была надпись: «Повесть о настоящем человеке». А на кассе тети Брони висела табличка: «Все билеты проданы». Казалось, будто бы вся Сталинка собралась у клуба имени Фрунзе.
— Вы что, не видите, аншлаг выбросили на улицу, — на ходу говорила Броня, выходя из директорского кабинета. На секунду в открытую дверь можно было видеть внушительную фигуру директора с телефонной трубкой у уха. И когда дверь захлопнулась, в воздухе еще висела директорская фраза «Билетов нету»…
— Ладно, пойдем другим разом, — сказал Фимка.
— Мы, конечно, уйдем, — проговорил Мишка Голубь… — Но было бы обидно не использовать такую огромную зрительскую аудиторию…
Вовка Тюя захлопал глазами и открыл рот, а Фимка, вытащив из носа указательный палец, покрутил им у виска.
— Следите за мной, — сказал Мишка, и вышел на мостовую. Он повернулся лицом к клубу Фрунзе и высоко поднял голову. Он смотрел куда-то вверх, на крышу клуба. Мы подошли к нему и тоже задрали головы. Через некоторое время к нам присоединилась довольно солидная группа любопытных… И еще… И еще…
— Левее!.. Еще левее! — кричал Мишка, глядя на крышу и рукой указывая «правильное направление». — Так!.. Хорошо!.. Теперь выше! Выше, я говорю!
Вся площадь была заполнена народом, и все, задрав головы, пытались разглядеть кого-нибудь на крыше.
— Хорошо! — кричал Голубь, — Теперь чуть-чуть правее! Так, хорошо!.. А теперь — бросай!!! — закричал Мишка и, втянув голову в плечи и пригнувшись, расталкивая толпу, бросился бежать… И толпа, в дикой панике пустилась наутек…
Мишку мы догнали уже во дворе.
— Бора!
— Чего, баба?
— Булки дать?
— Не хочу, баба.
— Бора! Дать булки?
— Не…
— Бора, булки дать?
— Ой, я не хочу!
— Бора, тебе сварить смяткое яичко?
— Фи, не хочу!
— Бора, а чего же ты хочешь?
— Микаду…
(Микадо — треугольные вафли, которые продавались в послевоенные годы).
— Микаду ты хочешь… А больше ты ничего не хочешь? А, Бора? Может ты хочешь умереть с голоду, или быть без зубов от сладкого?
— Хочу микаду!..
— Ша! Ну, иди уже сюда…
— Баба, ты дашь деньги?
— Я тебе уже дам деньги и ты уже купишь себе эту микаду, раз ты очень хочешь эту микаду…
— Ой, баба!..
— Бора! Бора! Бора, стой! Остановись, тебе говорат!
— Ну чего, баба?
— Бора, ты не пропустил деньги мимо карману?
— Да нет же, баба.
— Ну и слава Богу! Иди уже за своей микадой… Что делать? Ребенок хочет микаду…
Борькин папа, Моисей Соловейчик, имевший Почетную грамоту, подписанную самим Микояном, работал на кондитерской фабрике имени Карла Маркса каким-то большим начальником. Когда Вилька впервые пришел к Борьке (а пришел он, чтобы увидеть эту самую грамоту и подпись одного из вождей), то он увидел в квартире еще одно чудо: круглый обеденный стол в однокомнатной квартире покрывала белоснежная скатерть, на которой парил в облаках громадный орел и на его спине сидел прекрасный юноша… или девушка (до сих пор этого никто не знает, так как «опознавательные знаки пола», по удачному высказыванию старика Ольшанского, были закрыты опереньем могучей птицы).
И это изображение так поразило Вильку, что он буквально на следующий день перевел рисунок со скатерти через копирку на лист ватмана, который украсил стену над диваном в его квартире на Большой Васильковской. Ведь Борька жил на улице Заводской, ее вскоре переименовали в улицу Чайковского. И не только потому, что его сестра играла на аккордеоне, и не потому, что их дворник играл на многих струнных инструментах, и не потому, что Вилька «стучал у медный таз», когда играл «сводный оркестр», и не только потому, что у Борьки Крысы на всю улицу орал проигрыватель, и не только… А, впрочем, может быть и поэтому. Тогда время было такое: все переименовывали. Так, нашу легендарную Большую Васильковскую нарекли Проспектом 40-летия Октября. «Почему 40-летия? — спрашивал всех старик Ольшанский, — почему? Вы представляете, — и через двадцать лет, и через сто, и через… когда уже нас с вами не будет, будет 40-летие Октября»… Почему бы просто не назвать «Проспектом Октября»? Мне кажется, что всем бы было понятно, о каком Октябре идет речь. Вы попомните мои слова, что через десять лет какую-нибудь Фрометовскую назовут именем 50-летия этого самого Октября. Но это еще будет…
Представьте себе голодного ребенка, которого приводят в сказочный дворец, где столы завалены горами шоколада, конфет, тортов, бисквитов, орехов. Это не сон, это — явь! Моисей Соловейчик в один прекрасный день взял Вильку с Борькой к себе на работу. Он сказал: «Выносить отсюда нельзя, но здесь можно кушать все, что захотите». «Баба Рива», борькина мать, рассказывала, что те, кто работает на «конфетке» (так все называли кондитерскую фабрику), берут с собой на работу только черный хлеб, который здесь можно намазать «чем угодно».