Люди мимоезжие. Книга путешествий
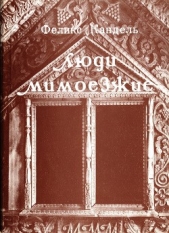
Люди мимоезжие. Книга путешествий читать книгу онлайн
Роман являет собой своеобразный социальный срез общества, вызывая интерес и сочувствие к каждой как бы мимоходом рассказанной судьбе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стоял дом на отшибе строением невидным. Женщина из окна румяная. Наличники резные. Ставни. Занавесочки. Дверь призывная. Крыльцо с половиком. Рукомойник на гвозде. Полотенце холстинное. Бревна сухие горкой накатаны: покурить после еды. И надпись от руки – «Чайная».
Мой нетерпеливый друг уже навострил глаз:
– Это вы Кудряшова?
Губы пухлые. Глаза синие. Коса венцом. Щека кулаком подперта.
– Была бы Кудряшова, кабы Кудряшов посватал. Подкрепиться не желаете?
– Желаем. Но нам некогда. За богатством идем.
Она и не удивилась:
– Это вам в деревню надо. Через поле.
– Пошли, – скомандовал мой друг. – Там и поедим. Всего-то километр с хвостиком.
А женщина:
– Хвостики наши немереные. Его никто за раз не переходил, это поле. Были и половчее вас.
Засомневались:
– Разве перекусить... Чего у вас есть?
– А чего желаете?
– Желаю, – важно сказал мой друг, – чтобы был бык печеный, а в боку нож точеный.
– Садитесь на бревнышки. Я мигом.
И подала через окно две тарелки.
По куску хлеба. По ломтю мяса. По огурцу соленому. Да горчицы шматок.
Мы ели, она из окна глядела.
Мясо уварилось. Хлеб пропекся. Огурцы просолились. Горчица слезу выжала.
А бревна – сухие, теплые, звонкие, солнцем пропеченные, и узоры от короедов – завитушками, как писарь письмена навел.
– Ах, Лопухова, Лопухова, куда же ты катишься?
Тут уж и я навострил глаз:
– Это вы Лопухова?
Лик грустный. Лоб чистый. Морщинки редкие. Плечи под шалью зябнут.
– Была бы Лопухова, кабы Лопухов под венец повел. Еще дать чего?
– Будет. Перекусили – и за богатством.
А она:
– До богатства путь долгий. К вечеру не управитесь. Блинков вам пожарить?
– Каких блинков?
– Гречишных.
– Жарь!
Зашипело. Зашкворчило. Потянуло масляным запашком. Заворожило из окна тихоньким говорком:
– Плешь идет на гору, плешь идет под гору. Ты плешь, я плешь, на плешь капнёшь, плешь задерёшь, да плешь наведёшь.
– Эй! Это чего?
Сунулась наружу: от плиты красна.
– Блинки уговариваю. Чтоб пышнее были.
– Ты кто есть такая? – спросил прямо мой нетерпеливый друг. – Колдунья? Ведунья? Баба-Яга?
– «Чайная», – сказала. – Читать умеешь?
– Ой, врешь! В чайной так не бывает.
А она со смешком:
– Что же мне теперь, грязь разводить, мух напустить, водку разливать?.. Ешьте, пока не остыло.
Масляны блинки – самое оно объедение. Лежат – дышат.
Пупыристые, темные, толстые, пахучие – проглоти язык!
А бревна гладкие, ровные, увесистые, задами оттертые, срез по краям янтарем старым, и кольца на срезе – узор в желтизне.
Мы ели, она из окна глядела.
Масляно есть – хорошо жить.
Стопку подмолотили в присест.
– Нанизались?
– Я нанизался.
– А я нет.
Через блин и он отпал.
Потащил из кармана мятые трешки.
– Сколько платить?
– А нисколько.
– Как так? Ты же «Чайная».
А она – загадочно:
– Кому «Чайная», а кому и чаянная.
– Ну, жизнь! – восхитился мой друг. – И богатства не надо. Остаюсь тут.
Оглядела. Сказала раздумчиво:
– Одного бы я приняла... Набанила поначалу. Спать уложила.
Мы как споткнулись.
Осмотрели ее внимательно.
Сидит женщина у окошка, глазами в тоске.
– Да нам некогда… – сказали нерешительно.
– Всем некогда, – вздохнула. – А годы ушли.
Тут уж и я вступил в дело. Локтем ему под ребро.
– Вот, – говорю. – Шанс тебе. Не упусти. И поле рядом. Скотопитательные пшеницы. Какого еще рожна?
– А почему я? – спросил подозрительно и глаз сощурил, будто впихивали ему на рынке негодный товар, гнильё-отходы.
– Твоя идея. Твоя машина. Тебе первому.
Подумал.
– А ну выйди. Покажись.
Вышла. Постояла на крылечке. Себя показала. Полный у нее порядок на всех фронтах.
Завертелся. Заюлил. Заскулил от сомнений.
– А почему я?! Всё я да я... Я уже устал от ответственности. Реши ты за меня!
– Нет уж. Ты сам.
Опять глаз сощурил:
– Завлекаете? Только добрый молодец и жив бывал?.. Ты оставайся!
– Ладно уж, – сказала из окошка. – Пошутить нельзя?
И заплакала.
Тихой слезой, как ребенок.
Она плачет, мы на бревнах ёрзаем.
– Слушай... Может, тебе в деревню перебраться? Всё не одной.
Говорила – вздыхала через слово:
– Мне в деревню никак... Имя мне по деревне – Вешалка... Вешаюсь будто на всех. А тут, может, пройдет кто, за собой позовет: «Пойдем, моя кровиночка, куда ведет тропиночка»...
И улыбнулась жалко.
Лицо бледное. Глаза красные. Нос запухший. Губа дрожит.
– Идите, – сказала. – За богатством за своим. У бабы Насти полон для вас чердак.
– А чего там есть?
– Старинушка. За сто, за двести лет коплено. Вон, через поле.
И мы пошагали со стыдом.
А сзади – как в спины тюкало:
– Ноги мои приплошали. Руки отпали. Головушка моя забаливает. Ах, Патрикеева, Патрикеева, без смерти тебе смерть...
Мой нетерпеливый друг шустро шел впереди, вскрикивал фальшиво:
– По богатство идем! Старинушку собирать! Иконы, прялки, лампы фитильные... Домой привезу, в комнате расставлю – уголок покоя! Сел, расслабился, чего еще надо?
– Пивом, – говорю, – тоже можно расслабиться. Бутылок с трех. А тут – человек живой. Утешения просит.
Обиделся. Запыхтел шумно. Кинул запальчиво:
– Да я с ней, может, переписываться буду! Понял?
И оглянулся ненароком.
На дом невидный. На наличники резные. На дверь призывную. И бревна сухие горкой накатаны: покурить после еды.
– Не, – сказал окончательно. – К бабе Насте идем. Она ждет, небось. В оконце выглядывает. Голову подпирает рукою. В платочке с горохами.
Тем и утешился.
Разулись, ботинки повесили на палку, пошагали гуськом по тропе. Трава под ногой мягкая, бархатная, уступчивая. Ступню нежит, пятку остужает. Идем промеж стен: хлеб густо стоит, струной тянутой, небо над головой в грудастых облаках, и ничего больше не видно. То ли мы ростом не вышли, то ли хлеб уродился хорош. И только шорох, тихий, настойчивый, дождичком понизу: колосья перезрели, зерно сыплется.
Стоял посреди хлебов мужчина обыкновенный, знакомец наш утрешний, задумчиво перебирал травы. Пальцами перетирал, нюхал, на язык брал, головой качал в сомнении. А в ногах у него шебуршня мышиная, крутятся – не разглядишь кто, и крик оттуда на все голоса, незлобивая ссора.
– Что ты ему суешь? Ну что?..
– Плакун-траву.
– Да он и так плачет, слезой исходит.
– Поплачет – легче будет.
– Кто тебе сказал?
– Люди говорят.
– Много они понимают, твои люди! От тепла легче будет. От еды. От запасов зимних. А от слезы-то чего?
– Ой, нашел, нашел. Эту! Траву-тирлич.
– На кой ему?
– Под мышками натрет, в лешего оборотится, всё враз позабудет.
– Да он крещеный! Дед, ты крещеный? Ни в кого он не оборотится.
– Нынче крещение не действительно. Отменили декретом.
– Кто те сказал?
– Этот. Коля-пенек. Я сам слыхал.
– Дурак твой Коля.
– Дурак – не дурак, а их власть.
– Траву-колюку не надо?
– Не надо.
– Траву-прикрыш?
– Да она для невест!
– Кошачью дрёму? Коровяк? Курячью слепоту'? На ночь – стопочку травничку.
– Давали ему. Стаканами! Не балдеет.
– Мне бы, – сказал утрешний знакомец, – зелье забытущее. Спячий вырь-корень. Память чтоб отошла.
А они с повинной:
– Только что был... Рос себе под присмотром.
– Может, мыши погрызли?
– Станут они тебе. Здешние мыши с хлеба опухли.
– Привет, – сказал мой нетерпеливый друг. – С кем разговоры?
Пискнули. Взвизгнули. Затаились в хлебах.
– Ночи не сплю, – ответил на вопрос мужчина. – На печи верчусь. Жизнь перебираю. Бока к утру ноют, душу намял. Пососать бы вырь-корень, да и перезабыть всё.
– И мне! – возбудился мой друг. – Пососать – и в отключку. Что было – не помню, что будет – не знаю. Где этот корень? Я заплачу.


























