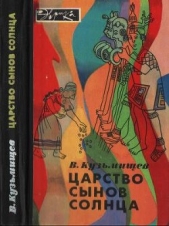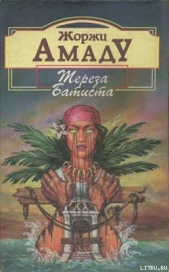Книга песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки
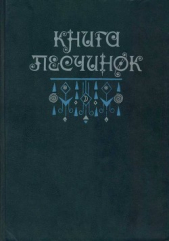
Книга песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки читать книгу онлайн
Сокровищница индейского фольклора, творчество западноевропейских и североамериканских романтиков, произведения писателей-модернистов конца XIX века — вот истоки современной латиноамериканской фантастической прозы, представленной в сборнике как корифеями с мировым именем (X. Л. Борхес, Г. Гарсиа Маркес, X. Кортасар, К. Фуэнтес), так и авторами почти неизвестными советскому читателю (К. Пальма, С. Окампо, X. Р. Рибейро и др.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Живем мы в самом деле или наша жизнь всего лишь долго длящееся наважденье? Свободны ли в своем существовании или зависимы? Странники мы на дорогах жизни или только персонажи чьих-то сновидений, обманчивые фигуры, неясные — то ли трагические, то ли гротескные — тени из кошмарных снов Беспробудно спящего? Но если мы всего лишь сновиденья, так отчего же мы страдаем и наслаждаемся? Нам бы все должно быть безразлично, мы должны быть бесчувственны: ведь наши страдания и наши радости — совсем не наши страдания и радости, эти чувства испытывает Вечно грезящий, это в его воображении мы проходим расплывчатой тенью, это он нас измыслил.
Вот такие пирронические идеи [20] я постоянно излагал своему старенькому учителю философии, а тот, смеясь над моими заблуждениями, порицал меня за постоянное стремление спутать философские теории, повести их никому доселе не ведомыми путями. Не раз объяснял он мне истинный смысл гегелевского принципа: «Все существующее разумно, все разумное существует», который я, по мнению учителя, извращал и неверно толковал, дабы приспособить к своим суперкантианским суждениям. Философ из Кенигсберга [21] утверждал, что мир представляется нам словно в кривом зеркале, как неверное отражение, некий ноумен [22], смутная тень реального. Я же уверял учителя, что Кант заблуждался, если принять во внимание, что он вообще допускал существование реальности, хотя бы и неверно воспринимаемой нашим внутренним «я»; никакого реального мира вообще нет, есть всего лишь переходное состояние между ничем (которое не существует) и реальностью (которая тоже не существует); мир — это чистый продукт воображения, не что иное, как сновиденье, в котором проплываем все мы и еще претендуем на какую-то индивидуальность, а все потому, что это развлекает и дает более острые ощущения Вечному сновидцу, ненасытному соне, фантазия которого нас и сотворила. Во всяком случае, Он — единственно возможная реальность...
Подолгу гуляли мы с добрым стариком, обсуждая самые тонкие и запутанные онтологические вопросы. В заключение он обычно сообщал мне приблизительно следующее: философа из меня никогда не выйдет, потому что я просто напросто безумец, который любую философскую систему, какой бы четкой она ни была, умеет так запутать, что под пламенными лучами моего сумасбродства она корежится и искажается, будто воск на солнцепеке, и что нет у меня достаточной выдержки, чтобы твердо следовать той или иной теории либо системе, и, даже напротив того, что я распаляю фантазию и изощренными вопросами затемняю самые ясные теории, чуть ли не аксиомы, и мои абсурдные хитросплетения превращаются в непроходимые нагромождения каменьев на моем пути. И еще мой учитель добавлял, что я иногда напоминаю ему те странные цветы на орнаментах, которые поначалу словно бы и растения, а потом незаметно переходят в тела грифонов, головы сильванов и разных других чудищ, а иногда ему кажется, будто я подобен дикому скакуну, ослепленному огнем горящей сельвы, по которой несется он без узды. Мой учитель так ни разу и не захотел признать, что это именно его философы были фантазерами, выдумщиками, дикими, разнузданными скакунами, а я всегда был спокоен и проницателен. И все же я полагаю, что мой случай, в котором и ему пришлось играть более или менее активную роль, заставил его несколько изменить свои философские воззрения...
Мне было восемь лет, а я уже считал, что моя двоюродная сестра Корделия станет моей женой. Наши родители договорились об этом браке, так как видели нашу взаимную привязанность, которой суждено было в будущем превратиться в безумную и неистовую любовь. Корделия была всего лишь на несколько месяцев младше меня, и все детство мы провели вместе; когда умерли мои родители, она разделила мою скорбь, а в отроческие годы мы учили друг друга всему, что узнавали сами. Мы до такой степени прониклись духовно друг другом, что получали одинаковые впечатления, читая одни и те же книги и глядя на одни и те же предметы. Я учил ее математике и философии, она меня — музыке и рисованию. Естественно, что все, чему я учил Корделию, было всего лишь изрядно перевранным изложением уроков моего учителя.
Летом в жаркие лунные ночи мы усаживались на террасе и вели нескончаемые разговоры.
Корделия была высокой, стройной и бледной; густые золотисто-пшеничные волосы подчеркивали по контрасту горячую алость ее губ и лихорадочный блеск карих глаз. Сам не знаю, что было необычного в сияющей красоте Корделии, но она повергала меня в грусть и печаль. В нашем городе был собор, а в нем картина фламандского художника «Воскрешение дочери Иаира» [23]; у изображенной на картине девушки были светлые волосы, и лицом она очень походила на Корделию: даже во взгляде такое же испуганное изумленье, ведь она только что проснулась от тяжкого смертного сна, и глаза ее еще хранят след познанных в могильном мраке тайн. Стоило мне взглянуть на Корделию, как мне обязательно вспоминалась картина, изображавшая возвращенную к жизни девицу.
Корделия тихонько мне возражала и склоняла светлую ангельскую головку на мое плечо. Мысли ее текли по тому же руслу, что и мои, сливаясь с ними в чистом и светлом потоке духовного единенья; тогда и души наши, разобщенные вначале, снова сближались, как давнишние подружки, встретившиеся на перекрестке и продолжающие путь уже вместе. Именно в эти минуты нашего духовного слиянья мы забывали о философии и искусстве и говорили только о нашей любви.
Любовь — это жизнь. Но почему же, без памяти обожая Корделию, я ощущал в ней словно бы некое неуловимое дыханье смерти? Сияющая улыбка Корделии была самой жизнью; влажный и страстный взгляд ее глаз был жизнью; тайное счастье, сводившее нас с ума, переполнявшее радостью и верой наши души, было жизнью; и все же я чувствовал, что Корделия мертва, что Корделия бесплотна. Зимой, когда за окнами падал снег, мы долгими часами играли самые красивые сонаты Бетховена и страстные ноктюрны Шопена. Музыка лилась из-под наших рук, пронизанная связывавшим нас чувством, и, однако, я испытывал одновременно и несказанное счастье, и странное ощущение, будто бы снежинки, падающие за окном, проникают мне в душу, такое ощущение, будто в восхитительной ткани нашего гармоничного созвучия не хватает какой-то части нити, уже перерезанной парками, отделенной от клубка жизни: грустное, непреодолимое состояние, словно бы на меня навалилась тяжелая могильная плита.
Мы с Корделией должны были пожениться, когда нам исполнится двадцать три года, и надо было ждать еще год.
Земли майората приносили значительный доход. Среди других сельских владений было у меня имение, называвшееся Белым поместьем: некогда там стояла уединенная хижина, и один из моих предков превратил ее в очень красивый дворец. Он располагался в глубине бескрайнего леса, вдали от проезжих дорог. Уже двести лет в нем никто не жил, и ничто здесь не походило на обычное поместье, но в отцовском завещании и в семейных бумагах и документах оно значилось как Белое поместье. Здесь мы и решили поселиться, чтобы без свидетелей на лоне природы вольно наслаждаться нашей любовью. Каждые три-четыре месяца мы с Корделией и моим учителем ездили погулять в Белое поместье. Ветхую обстановку дома с великим трудом удалось заменить новой, и моя нареченная проявила при этом свойственный ей изысканный вкус. Какой прелестной казалась она мне в простом белом платье и в широкополой шляпе, укрывавшей тенью ее бледное личико и огромные блестящие глаза, в которых жила тайна! Едва мы успевали слезть с повозки, как Корделия, по-детски радуясь, бежала в лес и набирала полный передник ирисов, полевых гвоздик, диких роз. Шаловливые бабочки и стрекозы так и вились вокруг ее головки, словно поджидая минуты, чтобы полакомиться ее свежим, алым, как спелая земляника, ртом. Хитрая плутовка пряталась в лесу, и я шел искать ее, а обнаружив под лимонным деревом или у ручья, в зарослях розовых кустов, заключал в объятья и запечатлевал на ярких губах или на бледной щеке долгий-долгий поцелуй. И несмотря на все мое счастье, каким-то неопределимым и необъяснимым образом после этих чистых и страстных поцелуев меня охватывало странное чувство, будто я целовал щелковистый лепесток громадного ириса, проросшего сквозь расщелину меж могильных плит.