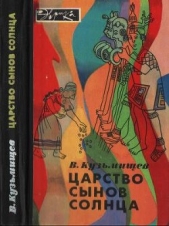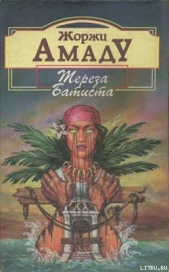Книга песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки
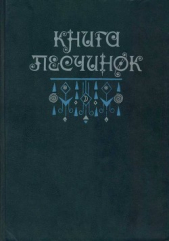
Книга песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки читать книгу онлайн
Сокровищница индейского фольклора, творчество западноевропейских и североамериканских романтиков, произведения писателей-модернистов конца XIX века — вот истоки современной латиноамериканской фантастической прозы, представленной в сборнике как корифеями с мировым именем (X. Л. Борхес, Г. Гарсиа Маркес, X. Кортасар, К. Фуэнтес), так и авторами почти неизвестными советскому читателю (К. Пальма, С. Окампо, X. Р. Рибейро и др.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Она сама должна была принести. Сказано тебе было: поднимайся к себе.
А ей ничего в голову не пришло, кроме дурацкого ответа:
— Он холодный-прехолодный, Малыш.
Кувшин был зеленый, как пророк.
Нино встал первый, предложил пойти к ручью за ракушками. Исабель почти не спала, вспоминала приемные с цветами, горшки повилики, больничные коридоры, сестер милосердия, термометры в стаканах с хлоркой, все, что было во время первого причастия, Инес, сломанный велосипед, привокзальное кафе, маскарадный костюм цыганки, подаренный ей на день рождения, когда ей исполнилось восемь. А сама она среди всего этого была словно папиросная бумага между листами альбома, сама она знала, что не спит, и думала о разных других вещах, не о цветах, не о повилике, не о больничных коридорах. Она неохотно поднялась, умылась, крепко растерев уши. Нино сказал, что уже десять и тигр в гостиной, где пианино, так что можно сразу идти к ручью. Они спустились вместе, поздоровались на ходу с Луисом и Малышом, те читали в кабинетах с открытыми дверьми. Улитки водились на том берегу, за которым начинались пшеничные поля. Нино все жаловался на рассеянность Исабели, сказал, она дружить не умеет и коллекционер из нее никудышный, Нино показался ей вдруг таким малолеткой, таким ребеночком со своими ракушками и листочками.
Когда над домом подняли флаг, приглашающий к завтраку, Исабель вернулась первой. Дон Роберто только что закончил обход, и она задала ему всегдашний вопрос. Подошел Нино, он брел медленно, тащил коробку, где были сачки и ракушки, Исабель помогла ему сложить сачки на крыльце, и они вошли вместе. Рема ждала их, белая и безмолвная. Нино положил ей на ладонь голубую ракушку.
— Самую красивую — тебе.
Малыш уже завтракал, положив рядом газету, Исабели осталось ровно столько места, чтобы удалось втиснуть локоть. Луис пришел из своего кабинета последним, вид у него был довольный, как всегда в полуденную пору. Принялись за еду. Нино говорил о ракушках, о том, что нашел в камышах улиточью икру, о том, как лучше сортировать ракушки для коллекции — по величине или по цвету. Улиток он сам прикончит, потому что Исабель их жалеет, а раковины они разложат сушиться на листе цинка. Затем пили кофе, Луис, как всегда, поглядел вопросительно на детей, и тут Исабель вскочила первая, побежала искать дона Роберто, хотя дон Роберто еще раньше ей сказал. Она обежала вокруг крыльца, и, когда вернулась, Рема и Нино вместе склонились над ракушками, они словно позировали для семейной фотографии, на Исабель взглянул только Луис, и она сказала: «Он в кабинете у Малыша». Малыш раздосадованно повел плечами, а Рема в это время касалась улитки кончиком пальца так осторожно, что казалось, палец такой же мягкий, как улитка. Потом Рема встала, пошла за сахаром, Исабель пошла с нею, они болтали на ходу и вернулись, смеясь шуткам, которыми обменялись в буфетной. Поскольку у Луиса кончилось курево и он велел Нино сбегать за ним в кабинет, Исабель поспорила с Нино, кто первый найдет сигареты, и они выбежали вдвоем. Победил Нино, они вернулись бегом, толкая друг друга, чуть не налетели на Малыша, тот шел читать газету в библиотеку, досадуя, что не может пользоваться своим кабинетом. Исабель уселась рассматривать ракушки, и Луис, ожидавший, чтобы она, как всегда, поднесла к его сигарете огонек, увидел, что она целиком погрузилась в созерцание улиток, которые зашевелились, медленно поползли наружу; вдруг Исабель взглянула на Рему и тотчас отвела глаза, улитки словно заворожили ее, и потому она не шевельнулась, услышав первый вопль Малыша, все уже бежали к библиотеке, а она сидела над ракушками, словно не слышала, как снова вскрикнул Малыш — крик был сдавленный,— как Луис ломился в дверь библиотеки, как вбежал дон Роберто с собаками, как стонал Малыш, как неистово лаяли псы, как Луис повторял: «Но он же был у него в кабинете! Она сказала, он у него в кабинете!», а Исабель склонилась над улитками, улитки были гибкие, словно пальцы, словно пальцы Ремы, а вот рука Ремы опустилась на плечо Исабели, вот приподняла ее голову, и заглянула ей в глаза, и глядела целую вечность, и Исабель надрывалась в жестоком плаче, прижимаясь к Реминой юбке, и плач был радостью наоборот, и Рема гладила ее по голове, успокаивала, мягко водя пальцами и что-то бормоча ей на ухо, и в шепоте Ремы, казалось, была благодарность, было одобрение, которого не выразить словами.
ДАЛЬНЯЯ
Дневник Коры Оливе
12 января.
Вчера вечером было опять то же самое, мне так надоели браслеты и лицедейство, pink champagne [176] и лицо Ренато Виньеса, о, какое лицо — бормочущий тюлень, портрет Дориана Грея перед самой развязкой. Легла в постель, а в ушах — «Буги-вуги Красной отмели», а во рту — привкус шоколадных конфет с мятным ликером, маминого поцелуя, зевотного, пепельно-серого (она после праздника всегда пепельно-серая и спит на ходу, огромная рыбина, такая сама на себя не похожая).
Нора говорит, она засыпает при свете, под гомон, под экстренные сообщения раздевающейся сестры. Вот счастливицы, а я гашу все огни вокруг себя и на себе — выключаю светильники, снимаю драгоценности,— раздеваюсь под разноголосицу всего, что мельтешило днем вокруг меня, пытаюсь уснуть — и вот я ужасающий полнящийся звоном колокол, я волна, я цепь, которой всю ночь громыхает наш Рекс в кустах бирючины. Now I lay me down to sleep... [177] Приходится вспоминать стихи, а то еще есть система — искать слова со звуком «а» внутри, потом с «а» и «е», с пятью гласными, с четырьмя. С двумя гласными и одной согласной (око, ива), с тремя согласными и одной гласной (горб, гроб), и снова стихи: «Луна в наряде жасминном зашла в цыганскую кузню, мальчик глядит на нее...» [178] С тремя гласными, чередующимися с тремя согласными: кабала, лагуна, аналог, радуга, Мелита, пелена.
И так часами: с четырьмя гласными, с тремя, с двумя; потом палиндромы [179]. Сначала попроще: бармен, нем раб; пил сок, кос лип; потом сложнейшие, очень красивые: тут хорош сыр к еде, крыс шорох тут; но, молод, летел долом он. Или изысканные анаграммы: Salvador Dali, Avida Dollars [180], Кора Оливе — королева и... Красивая анаграмма, потому что она как бы открывает путь, потому что ничем не кончается. Потому что: королева и...
Нет, ужасная. Ужасная, потому что открывает путь той, которая не королева и которую я опять ненавижу ночь напролет. Ту, которая Кора Оливе, но не королева из анаграммы, она что-то жалкое, нищенка в Будапеште, профессионалка из публичного дома в Кочабамбе, официантка в Кетцальтенанго [181], она где-то далеко и не королева. Но она все же — Кора Оливе, и потому вчера вечером было опять то же самое: я ощущала ее присутствие — и ненавидела.
20 января.
Иногда я знаю, что ей холодно, плохо, что ее бьют. Могу лишь ненавидеть — так остро, так неистово ненавидеть кулаки, сбивающие ее с ног, и ненавидеть ее самое, ее еще сильнее, потому что ее бьют, потому что я — это она, и ее бьют. Еще ничего, когда сплю или крою платье, или когда мама принимает и я наливаю чай сеньоре де Регулес либо отпрыску четы Ривасов, тогда я не прихожу в такое отчаяние. Тогда для меня это не так важно, это что-то сугубо мое, личное; и я чувствую, что она в силах совладать со своим злосчастием: вдалеке, одинока, но в силах совладать с ним. Пусть мучится, пусть мерзнет; я здесь терплю и, думаю, тем немножко ей помогаю. То же самое, что щипать корпию для солдата, которого еще не ранило, приятное ощущение — словно заранее предусмотрительно облегчаешь чьи-то будущие страдания.