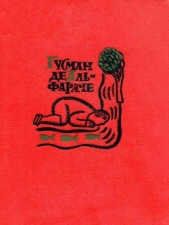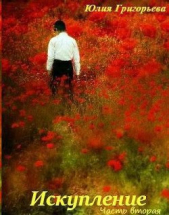Гусман де Альфараче. Часть вторая

Гусман де Альфараче. Часть вторая читать книгу онлайн
Для читателей XVII века Дон-Кихот и Гусман де Альфараче — два наиболее знаменитых героя испанской литературы периода расцвета
Роман написан от первого лица и считается одним из первых безусловных представителей жанра плутовского романа, после анонимного «Ласарильо с Тормеса». «Гусман де Альфaраче» напоминает мрачную и пессимистичную проповедь, Алеману не чужды морализаторство и сподвижничество к аскетичному образу жизни. Произведение пропитано настроением контрреформации. В первые же годы роман был переведен на несколько европейских языков и несколько раз переиздан, правда, этот успех не принес автору богатства
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если случалось мне разнюхать о делах весьма секретных, я заводил о них речь с теми, кого это касалось, советуя и наставляя, так что люди полагали, будто их тайны явлены мне божественным откровением. Я же старался темными намеками укрепить такое мнение и приобрел славу необычайную, особливо среди женщин, падких на чудеса и ворожбу, легковерных и болтливых; они превозносили меня до небес.
Если иной бедняк, прослышав о моей щедрости, приходил за вспомоществованием, я обращался к знакомым и, набрав у них денег, уделял бедняку малую толику, оставляя себе львиную долю; я снимал сливки, а ему доставалась сыворотка. Если затевал плутню, то перво-наперво обзаводился ризой благолепия, дабы черное дело прикрыть кротостью, святостью, умерщвлением плоти, примерным поведением, после чего попирал кого хотел.
Не веришь, посмотри сам, как легко мне удалось обмануть своего покровителя, святого человека. И не только обмануть, но того хуже — погубить его честное имя. Я стал орудием и причиной непоправимого ущерба для его доброй славы после того, как он, зная о моем благонравии и надеясь, что я буду служить честно и усердно, посоветовал своей знакомой взять меня в дом.
Моя госпожа, полагаясь на его горячие ручательства, доверяла мне безусловно. С радостью приняв на службу, она посвятила меня в свои хозяйственные и семейные дела, отвела под жилье удобные покои с отличной постелью и всеми услугами. Меня приласкали не как слугу, а как родного, ибо госпожа надеялась, что небеса вознаградят ее за доброе со мной обхождение.
Нередко она просила меня прочитать «Богородицу» за здравие и благополучие ее супруга. Говорил я с ней всегда тоном оракула, но столь смиренно, что трогал ее до слез. Так я ухитрился обмануть и ограбить свою госпожу, и больше того — запятнал честь ее дома. Среди ее служанок была одна мулатка, невольница, которую я долгое время считал свободной, девка хитрющая, под стать мне, а может, еще похитрей; с нею-то я и спутался.
Сам не знаю, как это вышло, что едва я поселился в доме, мы с ней снюхались. Никакими силами нельзя было выставить ее из моей комнаты! На людях она держалась скромницей, а со мною вела себя как распутная девка, точно выросла в самом гнусном вертепе. И такая была хитрая бестия, что ни слуги, ни хозяйка не подозревали о нашей связи. Во мне она души не чаяла, таскала мне всякие лакомства: мой сундук стал что кондитерская. Ее стараниями у меня всегда было лучшее белье; отменно выглаженное, надушенное, сверкающее белизной. Госпожа была тем довольна, почитая нас обоих чуть не за святых.
Моя любезная давала мне деньги на расходы, а откуда, у кого и как она их добывала, я не старался узнать. Кое о чем, правда, догадывался, но, блюдя свое достоинство, не слишком любопытствовал. Чтобы вернее привязать ее к себе, я нежными речами и посулами укреплял в ней надежду, что, скопив деньжат, выкуплю ее на волю и женюсь. Ради этого она готова была на все, лишь бы мне угодить. Я так ловко разыгрывал влюбленного, что она, хоть и была хитра, поверила моим словам, забыв о том, что я мужчина, а она женщина, к тому же невольница.
О делах по хозяйству госпожа узнавала из моих уст, и все ее доходы проходили через мои руки. Городской дом и сельское поместье были под моим надзором и равно приносили мне богатый урожай. Я замыслил скопить побольше наличности и удрать куда-нибудь далеко, в заморские края. Хотелось мне поехать в Индию, и я уже высматривал подходящее суденышко, как вдруг замысел мой сорвался.
Хозяйка в конце концов спохватилась и поняла, что ей грозит верное разорение: то и дело арендаторы докладывали, что я присваиваю ее доходы, пастухи — что распродаю скот, управляющий — что краду вино из погребов, и так как ему при этом не перепадало ни бланки, а все шло в мой карман, он решил изобличить меня перед неким идальго, родичем госпожи, которому посоветовал принять неотложные меры. И вот как раз накануне того дня, когда я задумал смотать удочки, на меня, беспечно почивавшего в часы сьесты, напустили альгвасила; ничего не объясняя и лишь твердя, что там мне все скажут, он схватил меня и повел в тюрьму.
Причину ареста мне не открыли, чтобы я не поднял переполоха в доме и среди соседей, если узнаю, по чьему приказу схвачен. В недоумении и раздумье брел я в тюрьму. То мне казалось, что приказ пришел из Италии, то я подозревал моих кастильских кредиторов, то думал, что открылись мои воровские дела в Севилье, за которые я еще не понес наказания. Любое из этих предположений не сулило добра, но горше всего было лишиться такой славной кормушки. Прослыв мошенником, я терял доверие людей и уже не мог надеяться на их помощь.
Но терпение! Слава богу, беда свалилась в то время, когда в закромах у меня было все подчищено. Наворованное я успел понемногу переправить к моей матушке; она жила одиноко и сумела все припрятать. И когда открыли мой сундук, там не нашли ни гроша — один хлам. Стали меня допрашивать. Я, разумеется, ни в чем не признался, памятуя, что «лучше взять, нежели дать» и что «слово — серебро, а молчание — золото». Обвинение было тяжкое, но не хватало улик.
Тогда призвали отца монаха и рассказали ему мое дело. Как человек осторожный, он не пожелал осудить или оправдать, пока не выслушает и другую сторону. Он явился ко мне в тюрьму. Я начисто отрицал все, уверяя, что на меня возвели напраслину, а я-де ни сном ни духом к этому делу не причастен и уповаю на господа, спасшего Иосифа и Сусанну; [170] он воззрит на мое чистосердечие и не допустит погибели невинного; страдания же сии и еще более тяжкие приемлю как справедливое возмездие мне, окаянному, за другие прегрешения, противу всемогущего господа мною совершенные.
Добрый монах, не зная, кому верить, решил, что в сомнительном случае надлежит стать на сторону пострадавшего и поддержать слабейшего. Он принялся утешать меня, обещал заступиться и даже помолился вседержителю, да осенит меня дланью своей и вызволит из беды. Простившись, монах пошел к писцу, поручился за меня и попросил отнестись к моему делу с особым вниманием, ибо, по его убеждению, я человек праведной жизни. Писец на такие речи расхохотался; вытащив бумаги с обвинениями против меня, он рассказал монаху о всех моих деяниях и открыл ему, что я за птица, какие кражи и плутни на моей совести. Монах смутился и в великом своем простодушии поведал писцу о том, что у нас с ним было, каким образом он познакомился со мной и почему проникся ко мне уважением; отнюдь не намереваясь мне вредить, он все же не хотел прослыть человеком легковерным, который защищает обвиняемого, не имея на то веских оснований.
Слушая его рассказ, писец только ахал да ужасался моей испорченности и наглому умыслу обмануть столь почтенную особу. Так вознегодовал он, так взъярился, что, буде это в его власти, тут же меня бы повесил. Прямо из канцелярии он отправился к прокурору на дом, сообщил обо всем и без труда настроил того на свой лад. Прокурор рассвирепел, точно дело касалось его самого; меня потащили на допрос, предъявили новое обвинение в обмане духовного лица, а затем приказали начальнику тюрьмы содержать меня построже и запереть в одиночной камере.
Когда меня схватили, при мне были кое-какие деньги, а потому некоторое время я мог с честью держаться на ристалище и продолжать борьбу. Но тюрьма схожа с огнем, который все воспламеняет и уподобляет себе любое вещество. Немало перебывал я в тюрьмах, и, на мой взгляд, тюрьма — это ветряная мельница и детская забава. Кто туда попадает, становится мельником: мелет чушь, утверждая, что ему там только ветра не хватает, а сама по себе тюрьма — пустяк, ничто. Эдакие речи нередко услышишь даже от тех, кого посадили под замок за многие убийства, разбой на дорогах и другие бесчеловечные и богомерзкие преступления.
Тюрьма — убежище глупцов, суровая школа, запоздалое раскаяние, проба друзей, торжество врагов, царство произвола, земной ад, медленная смерть, гавань вздохов, юдоль слез, дом умалишенных, где всяк вопит и толкует лишь о своем безумии. Здесь все ответчики, а вины своей никто не признает, не скажет, что его преступление тяжко. Узники подобны виноградным гроздьям, на которые, лишь начнут они созревать, роем налетают пчелы и, высосав из ягод сок, оставляют на веточках пустую кожуру; чем богаче куст, тем больше пчел.