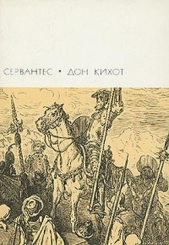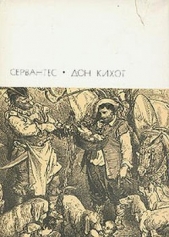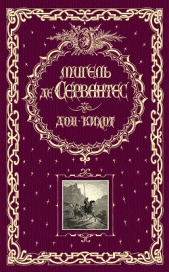Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 2

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 2 читать книгу онлайн
Свой лучший роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», с которого началась эра новейшего искусства, Мигель де Сервантес Сааведра (1547-1616) начал писать в тюрьме. Автор бессмертной книги прожил жизнь великого воина, полную приключений и драматических событий. Свой роман Сервантес адресовал детям и мудрецам, но он слишком скромно оценил свое великое творение, и рыцарь Печального образа в сопровождении своего верного оруженосца продолжает свое нескончаемое путешествие по векам и странам, покоряя сердца все новых и новых читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Песня эта показалась мне перлом создания, а голос его – сладким, как мед, и только потом, когда я увидела, как меня подвели эти и им подобные вирши, я пришла к мысли, что поэтов должно изгонять из государств благоустроенных, как это и советовал Платон, – по крайности, поэтов сладострастных, потому что их стихи не имеют ничего общего со стихами о маркизе Мантуанском, которые приводят в восторг и заставляют проливать слезы и детей, и женщин, остроумие же сладострастных поэтов пронзает вам душу, подобно нежным шипам, и опаляет ее, как молния, не прожигая покровов. А затем вот что он еще пел:
И еще в этом вкусе пел он песенки и куплеты, которые чаруют, когда их поют, и приводят в изумление, когда их читают. А что бывает, когда стихотворцы снисходят до того рода поэзии, который в Кандайе был тогда широко распространен и именовался сегидильей! Тут уж душа гуляет, тело пускается в пляс, тебя разбирает смех, и чувства приходят в волнение. Вот потому-то я и говорю, государи мои, что подобных стихотворцев с полным правом должно бы ссылать на острова Ящериц. [144] Впрочем, виноваты не они, а те простаки, которые их восхваляют, и те дурынды, которые им верят, и если б я была тою добродетельною дуэньей, какой мне быть надлежало, меня бы не тронули все эти полунощные сочинения, и я бы усомнилась в искренности подобных выражений: «Я живу умирая, пылаю во льду, замерзаю в огне, надеюсь без надежды, удаляюсь и остаюсь» – и прочих несуразностей в этом же роде, коими полны такие писания. В самом деле, разве рифмачи не сулят своим возлюбленным феникса Аравии, венца Ариадны, [145] коней Солнца, [146] перлов Юга, золота Червонии [147] и бальзама Панкайи? [148] Тут они дают полную волю своим перьям, – ведь им ничего не стоит обещать то, чего они не собираются, да и не могут исполнить. Но зачем же я уклонилась от моего предмета? Увы мне, несчастной! Что за безумие и что за сумасбродство перечислять чужие недостатки, меж тем как мне еще столько остается сказать о моих собственных! Еще раз: увы мне, злосчастной! Ведь меня сгубили не стихи, а собственное мое простодушие; меня сбила с толку не музыка, а мое же собственное легкомыслие; великая моя неопытность и малая осмотрительность проложили дорогу и расчистили путь дону Треньбреньо – так звали помянутого кавальеро. И вот при моем посредстве он не раз и не два проникал в покой к Метонимии, обольщенной не им, а мною самой, проникал на правах законного супруга, ибо хоть я и великая грешница, а все же нипочем, – то есть, виновата, не нипочем, а ни за что не допустила бы, чтобы кто-нибудь, кроме супруга, коснулся ранта на подошве ее башмачков. Нет, нет, ни в коем случае. За какие бы дела я ни взялась, брак всегда будет у меня стоять на первом месте! В этом же деле вся беда заключается в неравенстве положений: дон Треньбреньо – простой дворянин, а инфанта Метонимия, как я уже сказала, – наследница королевского престола. Некоторое время эта интрижка укрывалась и таилась в благоразумии моей осторожности, но затем я поняла, что она не может не открыться, ибо животик у Метонимии по неведомой причине все вздувался и вздувался, и, в ужасе от этого вздутия Метонимиева живота, мы все трое собрались на совещание и порешили, что, прежде нежели злое это дело обнаружится, дон Треньбреньо в присутствии викария попросит руки Метонимии на основании письма, в коем инфанта давала обещание быть его женою и которое я же ей и продиктовала: моя выдумка помогла мне составить его в столь сильных выражениях, что их не разрушила бы и сила Сампсонова. Были приняты надлежащие меры, означенный викарий прочитал письмо и допросил инфанту, инфанта во всем созналась, и тогда он велел ей укрыться в доме некоего почтенного столичного альгуасила.
Тут вмешался Санчо:
– Раз в Кандайе тоже есть альгуасилы, поэты и сегидильи, то я могу поклясться, что все на свете устроено одинаково. Только вы поторопитесь, ваша милость, сеньора Трифальди: ведь уж поздно, а мне смерть как хочется узнать, чем кончилась вся эта длинная история.
– Сейчас, сейчас, – объявила графиня.

Глава XXXIX,
в коей Трифальди продолжает удивительную свою и приснопамятную историю

Каждое слово Санчо Пансы восхищало герцогиню и приводило в отчаяние Дон Кихота; и как скоро Дон Кихот велел ему замолчать, то Горевана продолжала:
– Наконец, после множества вопросов и ответов, удостоверившись, что инфанта твердо стоит на своем, не отступая от первоначального своего решения и не меняя его, викарий решил дело в пользу дона Треньбреньо и отдал ему Метонимию в законные супруги, чем королева Майнция, мать инфанты Метонимии, была так раздосадована, что спустя три дня мы ее уже схоронили.
– Стало быть, она, наверно, умерла, – заключил Санчо.
– А как же иначе! – воскликнул Трифальдин. – В Кандайе живых не хоронят, а только покойников.
– Бывали случаи, сеньор служитель, – возразил Санчо, – когда человека в обморочном состоянии закапывали в могилу единственно потому, что принимали его за мертвого, и мне сдается, что королеве Майнции надлежало впасть в беспамятство, а вовсе не умирать: ведь пока ты жив, многое можно еще исправить, да и не столь большую глупость сделала инфанта, чтобы так из-за нее убиваться. Выйди она замуж за своего пажа или за какого-нибудь челядинца, – а я слыхал, что с сеньорами вроде нее такое не раз случалось, – вот это уж была бы беда непоправимая, но выйти замуж за дворянина, такого благородного и такого способного, каким его нам здесь изобразили, – ей-богу, честное слово, если это и сумасбродство, то не такое большое, как кажется, потому мой господин, который здесь присутствует и в случае чего меня поправит, всегда говорит, что подобно как из людей ученых могут выйти епископы, так и из рыцарей, особливо ежели они странствующие, могут выйти короли и императоры.
– Твоя правда, Санчо, – подтвердил Дон Кихот, – у странствующего рыцаря, если ему хоть немножко повезет в жизни, есть полная возможность в кратчайший срок стать властелином мира. Но продолжайте, сеньора графиня: по моему разумению, горестный конец этой доселе сладостной истории еще впереди.
– Еще какой горестный! – подхватила графиня. – Столь горестный, что по сравнению с ним редька покажется нам сладкой, а гнилой плод отменно приятным на вкус. Итак, королева скончалась, а вовсе не впала в обморочное состояние, и мы ее схоронили. И только успели мы засыпать ее землей и сказать ей последнее прости, как вдруг (quis talia fando temperet a lacrymis?) [149] на могиле королевы верхом на деревянном коне появился великан Злосмрад, двоюродный брат Майнции, лиходей и притом волшебник, и вот, чтобы отомстить за смерть двоюродной сестры, чтобы наказать дона Треньбреньо за дерзость и с досады на распущенность Метонимии, он при помощи волшебных чар заколдовал их всех прямо на могиле: инфанту превратил в медную мартышку, дона Треньбреньо – в страшного крокодила из какого-то неведомого металла, между ними поставил столб, тоже металлический, а на нем начертал сирийские письмена, которые в переводе сначала на кандайский, а затем на испанский язык заключают в себе вот какой смысл: «Дерзновенные эти любовники не обретут первоначального своего облика, доколе со мною в единоборство не вступит доблестный ламанчец, ибо только его великой доблести уготовал рок невиданное сие приключение». Затем он вынул из ножен широкий и огромный ятаган и, схватив меня за волосы, совсем уж было собрался перерезать мне горло и снести голову с плеч. Я оторопела, язык мой прилип к гортани, я ужасно как волновалась, но все же, сколько могла, пересилила себя и дрожащим и жалобным голосом наговорила ему столько всяких вещей, что в конце концов он отменил суровый свой приговор. Вместо этого он велел привести к нему из дворца всех дуэний, которые в настоящее время находятся здесь, и начал говорить о нашей вине, всячески ее преувеличивая, обличать нравы дуэний, дурные наши повадки и еще более дурные умыслы, переложил мою вину на всех нас, а затем объявил, что намерен заменить для нас смертную казнь казнью длительною, которая будет представлять собою постыдное и непрерывное умирание. И едва успел он договорить, как в ту же самую минуту и мгновенье мы все почувствовали, что на лицах у нас открываются поры и в них вонзаются словно бы острия иголок. Мы поднесли руки к лицу и обнаружили то, что вы сейчас увидите.