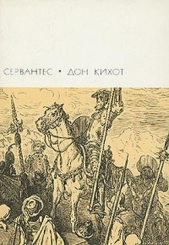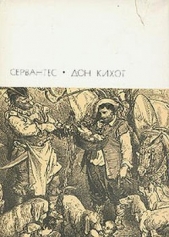Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 1

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 1 читать книгу онлайн
Свой лучший роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», с которого началась эра новейшего искусства, Мигель де Сервантес Сааведра (1547 -1616) начал писать в тюрьме. Автор бессмертной книги прожил жизнь великого воина, полную приключений и драматических событий. Свой роман Сервантес адресовал детям и мудрецам, но он слишком скромно оценил свое великое творение, и рыцарь Печального образа в сопровождении своего верного оруженосца продолжает свое нескончаемое путешествие по векам и странам, покоряя сердца все новых и новых читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Я про то и толкую, что вам не стоило обращать внимание на сумасшедшего, – заметил Санчо, – мало ли что он сболтнет. Ведь если бы счастливый случай не пришел вашей милости на помощь да направил булыжник прямехонько вам в голову, а не в грудь, то хороши бы мы тогда были, а все потому, что стали на защиту этой самой сеньоры, разрази ее господь. А Карденьо еще как здорово вывернулся бы, потому он умалишенный!
– Любой странствующий рыцарь обязан защищать честь женщин, кто бы они ни были, как от людей разумных, так и от невменяемых, наипаче же честь королев, столь могущественных и достойных, какова королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо она была не только прекрасна, но и в высшей степени благоразумна и стойка в несчастиях, а ведь несчастия случались с ней беспрестанно. Советы же и общество доктора Элисабата были ей очень полезны; они умудряли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. А невежественной и злопыхательствующей черни это дало основание думать и утверждать, что она была его наложницей. Но я опять скажу и еще двести раз повторю, что лгут те, кто так думает и говорит.
– Да я ничего не говорю и не думаю, – сказал Санчо, – ну их совсем, пусть себе на здоровье. Сожительствовали они или нет – за это они дадут ответ богу. Мое дело сторона, я знать ничего не знаю, не любитель я вмешиваться в чужие дела, кто покупает да надувает, у того кошелек тощает. Тем более, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы они и сожительствовали – мне-то что? И ведь люди часто про других думают: у них дом – полная чаша, а поглядишь – хоть шаром покати. Ну да разве на чужой роток накинешь платок? Чего лучше: на самого господа бога наговаривали.
– Господи Иисусе! – воскликнул Дон Кихот. – Какую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ради бога, замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И постарайся наконец воспринять всеми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и вполне соответствует правилам рыцарского поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, когда-либо им следовавшие.
– Сеньор! – возразил Санчо. – А это тоже мудрое рыцарское правило – плутать в горах без пути, без дороги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы с ним встретимся, еще, чего доброго, захочется довершить начатое, – я разумею не рассказ, а голову вашей милости и мои бока, – и войну с нами он доведет до полной победы?
– Говорят тебе, Санчо, замолчи! – сказал Дон Кихот. – Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня не только желание сыскать безумца, но и желание совершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой будет таков, что отныне все странствующие рыцари станут смотреть на него как на нечто в своем роде совершенное, как на нечто такое, что может привести их к славе и на чем они могут проявить свое искусство.
– А что, этот подвиг очень опасен? – осведомился Санчо Панса.
– Нет, – отвечал Рыцарь Печального Образа. – Хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.
– От моего рвения? – переспросил Санчо.
– Да, – сказал Дон Кихот, – ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в мире. Нет, я не так выразился; не одним из, а единственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с ним сравнялся, – это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковыми они должны были бы быть, и тем самым указали грядущим поколениям на их доблести как на достойный подражания пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо, Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков, [169] обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. И раз что это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, который ныне столь услужливо подставляет мне свой вихор.
– А позвольте узнать, что же именно ваша милость намерена совершить в такой глухой местности? – осведомился Санчо.
– Разве я тебе не говорил, – отвечал Дон Кихот, – что я намерен подражать Амадису и делать вид, что я обезумел и впал в отчаяние и неистовство, дабы одновременно походить и на храброго Роланда, который, обнаружив возле источника следы Анджелики Прекрасной и догадавшись, что она творила блуд с Медором, [170] сошел с ума от горя, – с корнем вырывал деревья, мутил воду прозрачных ручьев, убивал пастухов, истреблял стада, поджигал хижины, разрушал дома, угонял кобылиц и совершил еще сто тысяч неслыханных деяний, достойных на вечные времена быть занесенными на скрижали истории? Разумеется, я не собираюсь во всем подражать Роланду, или Орландо, или Ротоландо, – его называют и так и этак, – перенимать все его безумные выходки, речи и мысли, я лишь возможно точнее воспроизведу то, что представляется мне наиболее существенным. И может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амадису, который без всяких вредных сумасбродств, одними лишь своими слезами и чувствами стяжал себе такую славу, какою никто еще себя не покрывал.
– Сдается мне, – сказал Санчо, – что вытворять все это рыцарей заставляла необходимость, что у них была причина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей милости что за причина сходить с ума? Что, вас отвергла дама, что ли, или вы нашли следы и установили, что сеньора Дульсинея Тобосская резвилась с каким-нибудь мавром или христианином?
– В этом-то вся соль и есть, – отвечал Дон Кихот, – в этом-то и заключается необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнулся, то что же будет, когда меня до этого доведут. Притом у меня есть достаточное к тому основание, – я имею в виду долгую разлуку с навеки поработившею меня Дульсинеей Тобосской, а ты слышал, что сказал пастух Амбросьо: в разлуке человек всего страшится и все ему причиняет боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, которое я намерен послать с тобой госпоже моей Дульсинее. Отдаст она должное моей верности – тут и конец моему безумию и покаянию. Если же нет, то я, и точно, обезумею и, обезумев, уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или иначе выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ныне: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же причинишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пребуду безумцем. А что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мамбрина? Ведь ты на моих глазах подобрал его, после того как этот неблагодарный чуть было его не разбил, но все же так и не разбил, из чего явствует, сколь крепкого он закала.