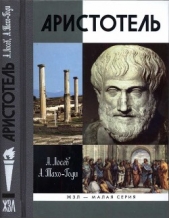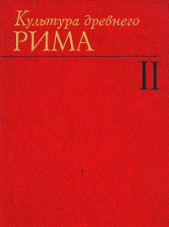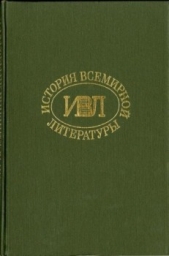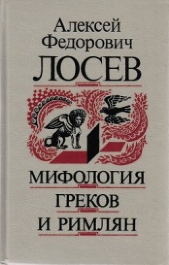Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Лукиан из Самосаты (ок. 120–180) — знаменитый древнегреческий писатель, создавший блестящие образцы философско-сатирического жанра. В том его избранных произведений входят диалоги, речи и другие сочинения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
44. А противники, сплетаясь в клубок, продолжали сражение. Зенофемид схватил со стола кубок, стоявший перед Аристенетом, и пустил им в Гермона.
и раскроило жениху череп надвое, так что получилась знатная и глубокая рана. Тут подняли крик женщины, многие из них, повскакав с мест, кинулись в середину между сражавшимися, и прежде всех мать юноши, когда она увидела его кровь. И невеста бросилась к нему в страхе за его жизнь. Среди этого смятения Алкидамант явил свою доблесть: сражаясь на стороне Зенофемида, ударом дубинки он сокрушил Клеодему череп, а Гермону челюсть, а нескольких рабов, пытавшихся помочь им, изранил. Однако те не собирались отступить; напротив, Клеодем выколол пальцем глаз Зенофемиду и, впившись зубами, откусил ему нос; а Дифила, прибывшего на выручку Зенофемиду, Гермон, стоя на ложе, ударил по голове.
45. Ранен был также и Гистией, грамматик, пытавшийся разнять дерущихся и получивший удар ногою в зубы, по-видимому, от Клеодема, принявшего его за Дифила. Бедняга лежал и, говоря словами любимого им Гомера, 298
Вдобавок всюду было смятение и слезы. Женщины причитали, окружив Херея, мужчины же пытались успокоить дерущихся. Величайшим злом был Алкидамант: он всех разом обращал в бегство, избивая кого попало. И многие, будь уверен, пали бы его жертвами, не сломай он своей дубинки. Я же стоял, прижавшись к стене, смотрел и не вмешивался, наученный опытом Гистиея, как опасно разнимать подобные побоища. Можно было подумать, что видишь перед собой лапифов и кентавров: столы были опрокинуты, кровь струилась и кубки летали по воздуху.
46. В конце концов Алкидамант опрокинул светильник, все погрузилось во мрак, и положение, естественно, сделалось еще более тяжелым: новый огонь достали с трудом, и много подвигов было совершено в темноте. Когда же наконец кто-то принес светильник, то Алкидамант был захвачен на том, что, раздев флейтистку, старался насильно сочетаться с ней; Дионисодор же уличен был в совсем забавном деянии: когда он встал на ноги, у него из-за пазухи выпала чаша. Оправдываясь, он заявил, будто Ион поднял кубок во время суматохи и передал ему, чтобы не сломался; Ион тоже утверждал, что сделал это из заботливости.
47. На этом и разошлись гости, в конце обратившись от слез снова к смеху над Алкидамантом, Дионисодором и Ионом. Раненых унесли на носилках. Они чувствовали себя очень плохо, в особенности старик Зенофемид, который одной рукой держался за нос, другой — за глаз. Он кричал, что погибает от боли, и даже Гермон, несмотря на свое бедственное положение — два зуба у него были выбиты, — выступил против него, заметив: «Запомни все-таки, Зенофемид, что не «безразличным» ты считаешь сегодня страдание». И жених, после того как Дионик уврачевал его рану, был увезен домой с повязками на голове, положенный на ту самую повозку, на которой он собирался увезти свою невесту. Горькую, несчастный, отпраздновал он свадьбу! И другим Дионик также, конечно, оказал посильную помощь, после чего их отнесли домой спать; многих из них рвало по дороге. Только Алкидамант остался, ибо никто уже не в силах был сдвинуть с места этого героя, после того как он свалился поперек ложа и заснул.
48. Таков-то, любезный Филон, оказался конец этого пира. Или, пожалуй, лучше будет прибавить еще эти слова из трагедии:
Ибо воистину непредвиденный исход имел и наш пир. Одно только я понял: что не безопасно человеку, не бывавшему в подобных переделках, обедать вместе со столь учеными людьми!
НИГРИН
Лукиан желает счастья Нигрину
Пословица говорит: «возить сову в Афины», 300 так как смешно, если кто-нибудь повезет туда сов, когда там их и без того много. Поэтому, если бы я, желая показать силу красноречия, написал книгу и затем отправил ее Нигрину, я был бы так же смешон, как если бы действительно привез сову в Афины; но так как я и хочу только высказать тебе мои теперешние взгляды и показать, что твои слова имели на меня сильное влияние, то несправедливо применять ко мне эту пословицу, а равно и известные слова Фукидида 301 о том, что невежество делает людей смелыми, а размышление нерешительными. Ведь ясно, что во мне не одно невежество является причиной такой решимости, но и любовь к твоим речам.
Будь здоров.
Друг и Лукиан
1. Друг. Каким важным ты вернулся к нам и как высоко держишь голову! Ты не удостоиваешь нас даже взгляда, не бываешь с нами и не принимаешь участия в общей беседе. Ты резко изменился и вообще стал каким-то высокомерным. Хотел бы я знать, откуда у тебя этот странный вид и что за причина всего этого?
Лукиан. Какая же может быть другая причина, мой друг, кроме счастья?
Друг. Что ты хочешь сказать?
Лукиан. Вкратце говоря, я к тебе являюсь счастливым и блаженным и даже, как говорят на сцене, «трижды блаженным».
Друг. Геракл! В такое короткое время?
Лукиан. Да, именно.
Друг. В чем же то великое, что тебя наполняет гордостью? Скажи, чтобы мы не вообще радовались, но могли узнать что-нибудь определенное, услышав обо всем от тебя самого.
Лукиан. Разве тебе не кажется удивительным, Зевс свидетель, что я вместо раба стал свободным, 302 вместо нищего — истинно богатым, вместо неразумного и ослепленного — человеком более здравым.
2. Друг. Да, это великое дело, но я еще ясно не понимаю, что ты хочешь сказать.
Лукиан. Я отправился прямо в Рим, желая показаться глазному врачу, так как боль в глазу все усиливалась.
Друг. Все это я знаю и от души желал тебе найти дельного врача.
Лукиан. Решив давно уже поговорить с Нигрином, философом-платоником, я встал рано утром, пришел к нему и постучался в дверь. После доклада слуги я был принят. Войдя, я застал Нигрина с книгой в руках, а кругом в помещении находилось много изображений древних философов. Перед Нигрином лежала доска с какими-то геометрическими фигурами и шар из тростника, изображающий, по-видимому, вселенную.
3. Порывисто и дружелюбно обняв меня, Нигрин спросил, как я поживаю. Я рассказал ему и, в свою очередь, пожелал узнать, как он поживает и решил ли он снова отправиться в Грецию. Тут, мой друг, начав говорить об этом и излагая свое мнение, он пролил передо мною такую амбросию слов, что Сирены, если они когда-нибудь существовали, и волшебницы-певицы и гомеровский лотос 303 показались мне устарелыми — так божественно вещал Нигрин.
4. Он перешел к восхвалению философии и той свободы, какую она дает, и стал высмеивать то, что обыкновенно считается благами — богатство, славу, царскую власть, почет, а также золото и пурпур и все то, чем большинство так восхищается и что до тех пор и мне казалось достойным восхищения. Все его слова я воспринимал жадной и открытой душой, хотя и не мог отдать себе отчета в том, что со мной происходит. Испытывал же я всякого рода чувства: то был огорчен, слыша порицания того, что мне было дороже всего — богатства, денег и славы, и едва не плакал над их разрушением, то они мне казались низменными и смешными, и я радовался, как бы взглядывая после мрака моей прежней жизни на чистое небо и великий свет; и, что удивительнее всего, я даже забывал о болезни глаз, а моя душа постепенно приобретала все более острый взор. А я раньше и не замечал, что она была слепа!