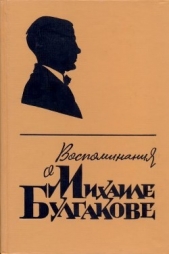История о Михаиле и Андронике Палеофагах
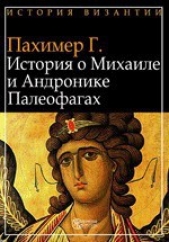
История о Михаиле и Андронике Палеофагах читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец, в обличение злоупотребления властью, стала выползать из мрака и выходить наружу говорливая смелость людей свободных; начали появляться сочинения. Но как писателя наказать было нельзя, потому что нельзя было обнаружить его; то оскорбителями признаваемы были те, у кого подобные сочинения отыскивались: и на них налегали сильно; ибо обличение почиталось оскорблением. И вот письменно назначалось наказание всякому, кто ни нашел бы такое сочинение, если он станет или сам читать его, или прочитает другому, а не сожжет тотчас. Самому же писателю василографий (оскорбительного сочинения против царя), как скоро был бы он открыт, угрожала прямо смертная казнь.
25. О действительности этой угрозы свидетельствует случай с Калоидою — человеком в высшей степени благочестивым, который жил девственно, раздавал милостыню и любил ближних искренно; а служба его была при кладовой деспины. Как скоро обличили его в том, что им написано сочинение, не спасло его ни благочестие, ни ходатайство деспины: неотступные просьбы последней едва подвигли царя заменить смертную казнь лишением глаз. По его приказанию, осужденный приводится к позорному столбу на площади в Константианах. Туда же приказано было скоро идти и клирикам, которые ничего не знали об этом, и стоять на месте. На клириков он всегда смотрел подозрительно, и теперь созвал их, чтобы попугать казнью. Потому не знавшие, в чем дело, пришли; а те, которые знали, позаботились скрыться, кто куда мог. И так вот поставили Калоиду к столбу и сначала остригли ему на голове волосы, — впрочем, не по самую кожу, чтобы оставить пищу и огню; потом зажгли просмоленный пергамен и обложили им его голову, так чтобы и она обгорела вместе с пергаменом, а, наконец, отрезав ему ножом и нос, полуживого и полумертвого отпустили. Впрочем, это сделано немного после, когда царь возвратился уже в город.
Тогда же, в 16 день посидеона, после праздника Богородицы, царь выехал отсюда, выехал и патриарх, а прежний патриарх Иосиф отправился в Космидий. Между тем, посланы были люди взять и привести также Гавриила Сфанцу, который был племянник ослепленного уже Иоанна и сперва занимал должность хранителя великой печати, а потом за какую-то вину ослеплен. Этого Сфанцу царь приказал сковать вместе с родственником его Иоанном и, ведя их с собою, поехал по дороге в Никомидию и ее окрестности. А патриарх, у холма Кивота переправившись чрез морской пролив, направил свой путь прямо к Никее. Между тем, таща за собою слепцов, царь смотрел, какое бы место выбрать для их заточения. Но Иоанн не мог далее выносить жестокого мучения и, сознавая, что страдает напрасно, не стал принимать ни пищи, ни питья, и не дозволял иметь попечение о своих глазах, а влачим был по дороге, что пустая тяжесть, и думал только о том, как бы где-нибудь удариться головою о землю или о камень, и — умереть. От таких ударов он, конечно, умер бы давно уже, если бы не удерживали его стражи. Однако сильные и, по возможности, частые удары головою, наконец, довели его до смерти, и он избавился от горькой жизни, а вместе с тем и царь — от своих относительно его беспокойств. Объехав все крепости по Сангаре и сам лично оставив в них надежные гарнизоны, он в месяц гамилион возвратился в город. Но патриарх, доехав до Никеи и пожив в Эннате, не счел нужным вступить в самый город, ибо хотел бы иметь при себе, что дать знакомым и чем одарить родственников; а между тем у него на тот раз ничего не было: вступить же в город и не одарить, как следует, он считал делом недостойным себя и неприличным его сану. Поэтому поворотив, как говорится, корму, переехал чрез Полипифии и решился, как можно скорее, возвратиться; ибо ему не позволял медлить (приближавшийся) праздник Воздвиженья. Таким образом, вслед за царем приехал в город и он, — и это было тринадцатого гамилиона. Не пренебрегая теми подысками, какие под него делались, патриарх тотчас, по сошествии с корабля, отправился к царю, целый день заискивал его благосклонность и, приглашенный на праздник, готов был в угодность ему сделать все; ибо совершенно изменился в своем характере с тех пор, как познакомился с трудными обстоятельствами, и только в подчинении царю обещал себе теперь завидную долю — прожить спокойно. Зато и царь не столько стал бояться за свою честь; а напрасное оскорбление патриарха со стороны народа считал достойным смерти. Об этом можно судить по случившемуся раздражению царя против всего. Его нисколько не заставили изменить принятому направлению даже беспокойства самых приближенных к нему людей, на которых он особенно надеялся, которые воспитаны были им и удостоены от него почестей. Царь признавал их виновными именно пред патриархом: те говорили, что причина соблазна заключается в нем, так как он оправдывал латинян, судя о них по одной только прибавке к символу; а этот готов был легко и открыто оправдывать его с той и другой стороны — и со стороны царя, и со стороны подвергавшихся бедствию, которые возмущали его душу: со стороны царя — тем, что он лишился благорасположения лиц к нему близких, а со стороны терпящих бедствия — тем, что начатого дела не предоставлял времени. Людей, досадовавших на патриарха, было много; досадовали на него также Константин Акрополит и Феодор Музалон.
26. Первого из них царь взял еще мальчиком у его отца, великого логофета, чтобы дать ему воспитание, и сделал самым близким к себе человеком: освободил его от военной службы, отдал для обучения наукам, почтил достоинством логофета общих дел, женил на дочери Кантакузина и сделал посредником в управлении государством. Этого-то Акрополита царь удалил от себя, хотя все еще сохранял к нему доброе расположение. Но на Музалона разгневался он гораздо больше. Когда наступило время отправить посольство в Рим, державный, оставив в покое других, для испытания, думаю, стал возлагать дело посольства больше на него. Однако ж, сколько ни приказывал он, не добился от него никакого знака согласия, как будто говорил глухому, или указывал что-нибудь слепому. Причина отказа царю не была не известна, — и он как ни сдерживал свой гнев, наконец, не могши более владеть собою, приказал другому Музалону, который был при царе в качестве докладчика и получил эту должность при посредстве брата, — долго и жестоко бить его; так что находившаяся в руках его палка не могла удовлетворить гневу царя и, от многократных ударов сломившись, отказалась служить и потребовала другой, которая докончила бы ее дело. Но и этим тогда не ограничилось его наказание;— царь удалил его от своего лица и не замедлил отстранить от участия в управлении государственными делами. С тех пор жил он в презрении и приобретал необходимое трудами рук своих, пока не только согласился на мир, но и готов был делать еще больше, если царь прикажет. Довольный такою его переменою, и ни во что не ставя охлаждение его ревности, которой далее условленных пределов не позволял и самому себе, — он опять принял его к делам и приказал твердо стоять в своих мыслях.
27. В том же году возвратился с востока царь Андроник, оставив там деспину; а пред этим прибыл с запада и порфирородный, не принесши никакого трофея, кроме того, что привел с собою Котаницу, которого убедил отдаться в свои руки клятвенными обещаниями в том, что он не потерпит от царя ничего жестокого. Котаница бы верен своей присяге, и хотел до конца сохранить ее; а царь, имея в виду не себя одного, но смотря и на то, чтобы рабство этого изменника и на будущее время было безвредно, положил ослепить его. «Ведь не я клялся», рассуждал он, «чтобы завлечь его вероломством, а сын, без всякого моего соизволения». Человеку злому зло и мерещется, думал царь, и говорил это не по предсказанию оракула, а по естественной предусмотрительности. Кто попробовал разбойничать, тот никогда не привыкнет подчиняться распоряжениям другого. Итак, царь оставался неизменным в своем намерении, а сына, который представлял ему, что чрез это сделается он явным клятвопреступником, успокаивал словами, говоря, что ведь он-то хранит клятву, сколько может, дав ее без сношения с царем; царю же, как свободному от клятвы, позволительно поступать так, как требует безопасность. Получив решительный отказ и видя безуспешность ходатайства за своего клиента, царевич принял намерение советовать Котанице — для избежания опасности, уйти на Черную гору, чтобы там облечься в монашеский образ, только бы как-нибудь спастись отсюда. Ведь невозможно подозревать, думал он, чтобы тот, кто однажды навсегда со страшными клятвами отрекся от всего мирского, мог возвратиться к прежнему роду жизни. Притом царь так уважает иноческий образ, что, верно, не решится наказать человека, который облекся в него. Так говорил ему порфирородный и, давая совет, по-видимому, полезный, очевидно, заботился очистить себя от вины, которая лежала бы на нем, если бы тот, не сделав этого, подвергся опасности: с моей стороны, думал он, выполнено все, чтобы, сколько возможно помочь ему. Котаница видел, что ему угрожает та же опасность, какая постигла зятя Торникиева, и потому, совет Константина признав добрым, самого же советника просил о ходатайстве пред царем, чтобы ему позволено было принять монашество и отречься от мира со всеми его радостями. Едва только попросили у царя позволения облечься Котанице в одежду совершенства, — тотчас последовало соизволение. И вот, освободившись от наказания, поступает он в монашество и, — только что вчерашний разбойник, оказывается целомудренным и незлобивым, однако ж, не по душевному расположению, а по одному внешнему виду; ибо у него была вовсе не та цель, чтобы заботиться о спасении души: его смирение было плодом необходимости. Что из этого вышло, скажем в своем месте. После того порфирородный отправился на восток и принялся за устроение тамошних дел, вместо возвратившегося оттуда царя.