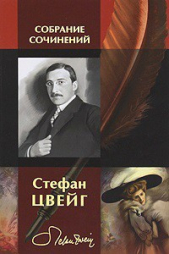Избранные сочинения

Избранные сочинения читать книгу онлайн
Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) был выдающимся политическим деятелем, философом и теоретиком ораторского искусства, но прежде всего он был оратором, чьи знаменитые речи являются вершиной римской художественной прозы. Кроме речей, в настоящий том Библиотеки античной литературы входят три трактата Цицерона, облеченные в форму непринужденных диалогов и по мастерству не уступающие его речам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXIV, (92) Но достаточно уже сказал я о своем предмете, а сверх предмета даже, быть может, и более чем достаточно. Что же мне теперь осталось, судьи, как не умолять и заклинать вас: окажите храбрецу милость, о которой он даже не просит, — я один, против воли его, и прошу и взываю об этом! Хоть во всеобщем нашем плаче Милон не пролил ни единой слезы, хоть он и не дрогнул лицом, тверд голосом, неизменен речью, — не ожесточайтесь, видя это: быть может, так он даже больше нуждается в помощи. Даже в гладиаторских боях, глядя на судьбу и участь самых безвестных людей, мы обычно презираем тех, кто дрожит, молит и взывает о пощаде, но стараемся оставить жизнь тем, кто храбр, отважен и легко идет на смерть, — мы скорей жалеем тех, кто жалости пашей не ищет, чем тех, кто ее добивается; не стократ ли больше должны мы жалеть храбрейших из граждан? (93) Право, судьи, меня терзают и убивают те речи Милона, которые вечно я слышу, с которыми всюду я рядом: «Мир вам, мир вам, сограждане мои! Будьте безопасны, будьте благоденственны, будьте счастливы! Пусть стоит этот город, славный и родной для меня, как бы он со мною ни обошелся; пусть спокойно живут сограждане без меня, но благодаря мне; а коли мне с ними нельзя, то я уступлю и уйду. Если не дано мне жить в хорошем государстве, то хоть не буду жить и в дурном: дайте найти мне город вольный и благоустроенный, там и обрету я покой. (94) О труды мои, тщетно понесенные (так он восклицает), о милые мои надежды, о праздные мои помышления! Я, народный трибун, в тяжкий час для отечества встав за сенат, уже угасавший, встав за всадников римских, уже обессиленных, встав за честных людей, уж утративших голос пред воинством Клодия, — я ли мог подумать, что честные люди оставят меня без защиты? Где же сенат, за которым я шел? где всадники, твои всадники (так говорит он мне)? где преданность городов? где негодование всей Италии? где, наконец, твоя речь, твоя защита, Марк Туллий, столь многим служившая подмогою? Мне ль одному, кто не раз за тебя шел навстречу смерти, ты ничем не в силах пособить?»
XXXV. (95) Говорит он это, судьи, не в слезах, как я, а с таким же лицом, как теперь. Если граждане неблагодарны, то отказывается Милон от дела своих рук; если только осторожны и осмотрительны, то не отказывается. Он напоминает вам, как эту толпу и низкую чернь, грозившую вам при Клодии, он не только доблестью своею смирял, чтоб были вы в безопасности, но и потратил ей в угоду три свои состояния; 174 зрелищами снискал он расположение толпы, так неужто вашего не снищет он расположения редкими заслугами своими перед отечеством? Как сенат к нему благосклонен, он не раз видал в эти годы; а ваше, судьи, и ваших сословий рвенье о нем, и встречи, и речи унесет он с собою повсюду, что бы с ним ни случилося. (96) Помнит он и о том, что ему недоставало для консульства только голоса глашатая, 175 в котором ему и не было нужды; ведь голос народа, которого он только и желал, уже подан был за него. И он знает: если все будет против него, то причина тому — не деянье, которое он совершил, а подозренье в измене отечеству. И еще добавляет он (и он прав!): кто истинно мудр и мужествен, тот в жизни взыскует подвига, а не награды за подвиг. Подвиг славы своей он свершил, ибо нет ничего достойней мужчины, чем избавить отчизну от опасности, — блажен, кто этим достиг почета от сограждан, но счастлив и тот, чьи услуги оказались выше благодарностей. (97) Впрочем, если уж вести счет наградам доблести, то величайшая из всех наград — это слава: лишь она утешает нас в краткости жизни памятью потомства; лишь она нам дает в заочности — присутствовать, в смерти — жить; лишь по ней, но ее ступеням люди словно бы восходят к небожителям. (98) И Милон говорит: «Вечною будет обо мне молва в римском народе и у всех народов, не заглушит ее даже время. Да и ныне, в эти самые дни, когда недруги раздувают пламя вражды ко мне, все же во всяком кругу меня поздравляют, меня благодарят, во всякой беседе прославляют меня. А что говорить об Этрурии, о праздниках ее, отпразднованных и назначенных? Сто два дня прошло, по-моему, с погибели Публия Клодия, а уже до самых пределов власти римского народа докатилась эта весть и вслед за вестью ликование. Потому-то и не тревожусь я, где ляжет тело мое (так говорит он), ибо слава имени моего уже наполнила весь мир и жить будет вечно».
XXXVI. (99) Так говорил ты со мною наедине, и так говорю я с тобою, Милон, при всех: я не в силах достойно воздать хвалу твоему мужеству, но чем божественней твоя доблесть, тем больнее для меня с тобою разлука. Если я потеряю тебя, не останется у меня и того печального утешения, чтобы гневаться на тех, кто нанес мне столь тяжкую рану: ибо не враги тебя у меня отнимут, а лучшие друзья, от которых никогда не знал я зла, а знал лишь благо. Да, судьи, это так: никакая боль от вас не будет столь жгучей (ибо есть ли боль сильнее этой?), чтобы мог я позабыть, как высоко вы всегда меня ставили. Если же вы сами об этом позабыли или если вы за что-то на меня в обиде, почему тогда не я плачусь за это, а Милон? Я считал бы себя счастливцем, если бы не дожил до такой беды его! (100) Одно лишь мне осталось утешенье: знать, что пред тобою, Милон, верен был я дружбе, верен был преданности, верен был признательности. За тебя я принял вражду власть имущих; за тебя подставил жизнь и тело под мечи врагов твоих; за тебя я простирался ниц перед многими; для тебя в тяжелый час все добро мое и детей моих было как твое; и сегодня, если ждет нас насилие, ждет борьба не на жизнь, а на смерть, — я готов! Что еще могу я сделать, чем отплатить за твои услуги? Только разделить с тобою твою участь, какова бы она ни была! И я не отказываюсь, я не отрекаюсь; я заклинаю вас, судьи: или спасением Милона умножьте ваши мне благодеяния, или погибелью Милона заставьте о них обо всех позабыть!
XXXVII. (101) Милона не волнуют мои слезы: твердость духа его несказанна, изгнание для него — везде, где нет места для доблести, смерть для него — естественный конец жизни, а не кара. Таков уж он от природы; но вы-то, судьи, вы на что отважитесь? Память о Милоне сохраните, а самого Милона вышвырнете? Чтоб больше чести было городу, который примет его доблесть, а не городу, который ее породил? А вы, храбрецы, столько раз проливавшие кровь за отечество, вы, центурионы и воины, к вам я взываю в этот час беды непобедимого мужа и гражданина: неужели на глазах у вас, неужели под вооруженною охраною вашей будет из Рима такая доблесть изгнана, извергнута, вышвырнута? (102) Как я жалок, как я несчастен! Ты сумел, Милон, заставить их вернуть меня в отечество; я ли не заставлю их сберечь тебя отечеству? Что скажу я детям моим, для которых ты — второй отец? Что скажу я тебе, брат мой Квинт, 176 товарищ былых моих дней, который теперь далеко? Что я не смог спасти Милона силами тех, чьими силами он меня спас? И в каком же деле он смог? В том, за которое ему весь мир благодарен! И пред кем не смог? Пред теми, кого больше всех и вызволила из тревог погибель Клодия! И кто не смог? Я! (103) О, каким, должно быть, преступлением, каким злодеянием осквернил себя я, судьи, в те дни, когда выследил, раскрыл, выявил, уничтожил угрозу всеобщей погибели! Все несчастья мои и ближних моих пролились на нас из этого источника! Зачем вы пожелали воротить меня? Затем ли, чтоб на моих глазах изгнан был тот, кто воротил меня? Не допустите же, молю вас, чтобы возвращенье было мне горше изгнания: разве это восстановление в правах, когда лишаюсь я того, кто был моим восстановителем?
XXXVIII. О, если бы дали бессмертные боги… — отечество, не прогневайся, если слова мои перед Милоном честны, а пред тобою преступны! — о, если бы Клодий был жив, был претором, консулом, диктатором! Все лучше, чем видеть мне то, что я вижу! (104) О бессмертные боги! Вот храбрейший муж, достойнейший вашей пощады, о судьи: «Нет, нет, — говорит он, — лишь бы Клодий подвергся заслуженной каре, а я, коли нужно, приму на себя незаслуженную!» И такой-то муж, рожденный для отечества, погибнет не в отечестве, хоть и за отечество? Память о духе его останется при вас, а памятника над телом его не будет в Италии? И вы это потерпите? И кто-то из вас обречет приговором к изгнанию из Рима того человека, которого каждый иной город будет рад к себе призвать? (105) О, блажен тот край, который примет этого мужа, и неблагодарен тот, который его изгонит, и несчастен тот, который его потеряет! Но довольно! говорить мне мешают слезы, а слезами защищать запрещает Милон. Итак, умоляю и заклинаю вас, судьи: не бойтесь голосовать за то, за что высказалось ваше сердце. И поверьте: вашу доблесть, справедливость, верность сполна оценит тот, кто выбрал в этот суд самых честных, самых мудрых, самых смелых граждан.