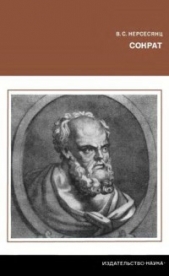Государство

Государство читать книгу онлайн
Диалог "Государство" по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни — личной, семейной, полисной — со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага. "Государство" представляет собою первую часть триптиха, вслед за которой следуют "Тимей" (создание космоса демиургом по идеальному образцу) и "Критий" (принципы идеального общества в их практической реализации). Если "Тимей" и "Критий" относятся к последним годам жизни Платона, то "Государство" написано в 70—60-е годы IV в. до н. э. Действие же самого диалога мыслится почти одновременно с "Тимеем" и "Критием" — приблизительно в 421 или в 411—410 гг., в месяце Таргелионе (май-июнь). Беседу в доме Кефала о государстве Сократ пересказывает на следующий день друзьям, с которыми назавтра будет слушать рассуждения Тимея. Таким образом, "Государство", будучи подробным пересказом реальной встречи Сократа и его собеседников, лишено всякой драматичности действия и незаметно переходит в неторопливое, внимательное изложение с примерами, отступлениями, назиданиями, цитатами, мифами, символами, вычислениями, политическими и эстетическими характеристиками и формулами.
Судя по "Тимею" (см. вступительные замечания, стр. 661), беседа происходила в день празднества Артемиды-Бендиды, почитаемой фракийцами и афинянами. Эта беседа в Пирее, близ Афин, заняла несколько часов между дневным торжественным шествием в честь богини и лампадодромиями (бегом с факелами) тоже в ее честь. Среди действующих лиц главное место занимают Сократ и родные братья Платона, сыновья Аристона Адимант и Главкон, оба ничем не примечательные, но увековеченные Платоном в ряде диалогов (например, в "Апологии Сократа", "Пармениде"). Известно, что Сократ отговорил Главкона заниматься государственной деятельностью (Xen. Mem. III 3).
Хозяин дома, почтенный старец Кефал, — известный оратор, сицилиец, сын Лисания и отец знаменитого оратора Лисия, приехавший в Афины по приглашению Перикла, проживший там тридцать лет и умерший в 404 г. Здесь же находится сын Кефала Полемарх, который в правление Тридцати тиранов был приговорен выпить яд и погиб без предъявленного обвинения, в то время как Лисию, младшему брату, удалось бежать из Афин (Lys. Orat. XII 4, 17—20). Среди гостей находится софист Фрасимах из Халкедона, человек в обращении упрямый и самоуверенный, однако ценимый поздними авторами за "ясный, тонкий, находчивый" ум, за умение "говорить то, что он хочет, и кратко и очень пространно" (85 В 13 Diels). Фрасимах этот, профессией которого считалась мудрость (там же, В 8), покончил самоубийством, повесившись (там же, В 7).
При обсуждении важных общественных проблем присутствуют молча, не принимая участия в разговоре, Лисий и Евтидем — третий сын Кефала (последний не имеет ничего общего с софистом Евтидемом), а также Никерат, сын известного полководца Никия, софист Хармантид из Пеании и юный ученик Фрасимаха. Что касается Клитофонта, сына Аристонима, софиста и приверженца Фрасимаха, то в перечне действующих лиц диалога он не значится, хотя кроме указания на его присутствие в доме Кефала (I 328Ь) он несколько раз подает реплику Полемарху (I 340а—с).
Излагаемые Сократом идеи находят постоянную оппозицию со стороны Фрасимаха, в споре с которым как с софистом (ср. "Протагор", "Гиппий больший", "Горгий") яснее вырисовы вается и оттачивается истина Сократа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это совершенно неизбежно, Сократ.
— А между тем мы еще не упоминали о величайшей необходимости.
— Какой же?
— О той, которую с помощью дела прибавляют к слову эти самые воспитатели и софисты, когда их речь не убеждает. Или ты не знаешь, что ослушника они карают лишением гражданских прав, денежными штрафами, а то и смертной казнью?
— Да, они весьма охотно прибегают к таким мерам.
— Какой же, по-твоему, иной софист или направленные против них доводы частных лиц их одолеют?
— Думаю, такого софиста нет.
— Да, нет. Даже и делать такую попытку было бы крайне безрассудно. Ведь не бывает, не бывало, да, по-моему, и не будет иного, противоположного отношения к добродетели у тех, кто получил воспитание от большинства, то есть человеческое; однако для божественного воспитания, мой друг, мы, согласно пословице, делаем исключение [212]. Надо твердо знать: если что уцелело при таком устройстве государств и все идет как следует, то своей сохранностью, скажешь ты, это все обязано божественному уделу [213] — и ты будешь прав.
— Да, мне кажется, что дело обстоит не иначе.
— Вдобавок убедись еще вот в чем...
— В чем же?
[Софисты потакают мнениям толпы]
— Каждое из этих частных лиц, взимающих плату (большинство называет их софистами и считает, будто их искусство направлено против него), преподает не что иное, как те же самые взгляды большинства и мнения, выражаемые им на собраниях, и называет это мудростью, все равно как если бы кто-нибудь, ухаживая за огромным и сильным зверем, изучил бы его нрав и желания, знал бы, с какой стороны к нему подойти, каким образом можно его трогать, в какую пору и отчего он свирепеет или успокаивается, при каких обстоятельствах привык издавать те или иные звуки и какие посторонние звуки укрощают его либо приводят в ярость: изучив все это путем обхождения с ним и длительного навыка, он называет это мудростью и, как бы составив руководство, обращается к преподаванию, ничего, по правде сказать, не зная относительно взглядов [большинства] и его вожделений — что в них прекрасно или постыдно, схорошо или дурно, справедливо или несправедливо, но обозначая перечисленное соответственно мнениям этого огромного зверя: что тому приятно, он называет благом, что тому тягостно — злом и не имеет никакого иного понятия об этом, но называет справедливым и прекрасным то, что необходимо; а насколько но существу различна природа необходимого и благого, он не видит и не способен показать это другому человеку. И раз он таков, скажи, ради Зевса, не странным ли показался бы он тебе воспитателем?
— Мне — да.
— А чем же отличается от него тот, кто мудростью считает уже и то, если он подметил, что не нравится, а что нравится собранию большинства самых различных людей — будь то в живописи, музыке или даже в политике? Если, общаясь с ними, он выставляет напоказ свои поэтические или иные произведения либо свое служение государству, он делает это большинство своим властелином сильнее, чем это вызывается необходимостью, и тогда в силу так называемой "Диомедовой нужды" [214]он выполняет то, что одобряет большинство. А действительно ли это хорошо или прекрасно — разве слышал ты когда-либо, чтобы кто-то из них отдавал себе в этом отчет и это не вызывало бы смеха?
— Думаю, что и никогда не услышу.
— Так вот, учитывая все это, припомни то, о чем говорили мы раньше: возможно ли, чтобы толпа допускала и признавала существование красоты самой по себе, а не многих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а не множества отдельных вещей?
— Это совсем невозможно.
[Антагонизм философа и толпы]
— Следовательно, толпе не присуще быть философом.
— Нет, не присуще.
— И значит, те, кто занимается философией, неизбежно будут вызывать ее порицание.
— Да, неизбежно.
— И порицание со стороны тех частных лиц, которые, общаясь с чернью, стремятся ей угодить.
— Исходя из этого, в чем ты усматриваешь спасение для философской натуры, чтобы ей не бросать своего занятия и достичь своей цели? Решай на основании того, о чем мы говорили раньше: мы признали, что такой натуре свойственны хорошие способности, памятливость, мужество и возвышенный образ мыслей.
— Да.
— Такой человек с малых лет будет первым среди всех, особенно если и телом он уродился таким, как душой.
— Почему бы ему и не быть!
— А его близкие и сограждане захотят найти ему применение в своих делах, когда он подрастет.
— Как же иначе?
— Значит, они будут припадать к нему с просьбами и оказывать ему почет, чтобы подольститься и заранее заручиться его могущественным покровительством.
— Да, это часто бывает.
— Что же будет делать, по-твоему, подобный человек среди таких людей, особенно если он будет принадлежать к числу граждан великого государства и будет в нем богатым и знатным, а к тому же статным и привлекательным на вид? Не появятся ли у него необычные притязания? Не станет ли он считать себя способным распоряжаться делами и эллинов, и варваров и не занесется ли он высоко, преисполнившись высокомерия и пустой самонадеянности вопреки разуму?
— Все это более чем возможно.
— Если кто-нибудь, несмотря на такое его состояние, спокойно подойдет к нему и скажет ему правду, то есть, что ума у него нет, а не мешало бы его иметь, но что поумнеть можно, если только подчинить себя этой цели — приобретению ума, легко ему будет, по-твоему, выслушать это среди стольких бед?
— Вовсе не легко.
— Если же кто-нибудь, хотя бы один человек, благодаря своей хорошей природе и близости к таким учениям склонится на сторону философии, чувствуя к ней влечение, как, должны мы ожидать, поступят в этом случае ее противники, понимая, что для них потеряна возможность использовать его как союзника? Разве не прибегнут они к любым действиям и к любым доводам, чтобы переубедить его и чтобы его наставник не имел успеха? Разве не будут они строить козни и частным образом, и в общественном порядке, привлекая его к судебной ответственности?
— Это неизбежно.
— Так может ли статься, чтобы такой человек занимался философией?
— Не очень-то!
— Видишь, мы неплохо тогда сказали, что даже сами особенности философской натуры, когда она оказывается в плохих условиях, бывают каким-то образом виной тому, что человек бросает этим заниматься; причиной бывают и так называемые блага — богатство и всякого рода обеспеченность.
— Это было правильно сказано.
— Вот в чем гибель и вот как велика, друг мой, порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия! И вообще-то подобные натуры редкость, как мы утверждаем. К их числу относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему; мелкая же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни для государства.
— Сущая правда.
— Когда, таким образом, от философии отпадают те люди, которым всего больше надлежит ею заниматься, она остается одинокой и незавершенной, а сами они ведут жизнь и не подобающую, и не истинную. К философии, раз она осиротела и лишилась тех, кто ей сродни, приступают уже другие лица, вовсе ее нe достойные. Они позорят ее и навлекают на нее упрек в том, за что как раз и порицают ее, по твоим словам, ее хулители, говоря, будто с ней имеют дело люди либо ничего не стоящие, либо же в большинстве своем заслуживающие всего самого худшего.
— Действительно, так об этом и говорят.
— И правильно говорят. Ведь иные людишки чуть увидят, что область эта опустела, а между тем полна громких имен и показной пышности, тотчас же, словно те, кто из темницы убегает в святилище, с радостью делают скачок прочь от ремесла к философии — особенно те, что половчее в своем ничтожном дельце. Хотя философия находится в таком положении, однако сравнительно с любым другим мастерством она все же гораздо больше в чести, что и привлекает к ней многих людей, несовершенных по своей природе: тело у них покалечено ремеслом и производством, да и души их сломлены и изнурены грубым трудом; ведь это неизбежно.