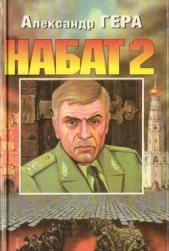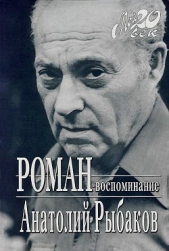Книгоедство

Книгоедство читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И далее:
Прекратился рост города. Замерло строительство. Во всем Петербурге воздвигается только одно новое строение Гранитный материал для него взят из разрушенной ограды Зимнего дворца. Так некогда «нарождающийся мир христианства брал для своих базилик колонны и саркофаги храмов древнего мира».
А вот свидетельство писателя Николая Чуковского:
…Он (Петроград. – А Е.) был на редкость пустынен, жителей в нем было вдвое меньше, чем перед революцией. Автобусов и троллейбусов еще не существовало, автомобилей было штук шесть на весь город, извозчиков почти не осталось, так как лошадей съели в девятнадцатом году, и только редкие трамваи, дожидаться которых приходилось минут по сорок, гремели на заворотах рельс Пустынность обнажала несравненную красоту города, превращала его как бы в величавое явление природы, и он, легкий, омываемый зорями, словно плыл куда-то между водой и небом
Осип Мандельштам, Николай Анциферов, Вячеслав Иванов, Константин Вагинов, Бенедикт Лившиц, книга стихов которого так и называлась – «Кротонский полдень», по имени города из знаменитого романа Петрония, где дорвавшиеся до власти рабы празднуют праздник плоти… Писатели, поэты, художники – каждый творческий человек той эпохи по-своему отразил эту тему. Даже шутили в те годы на античный манер Так, например:
И, естественно, не мог пройти мимо этой темы замечательный русский писатель Михаил Алексеевич Кузмин Вот отрывок из его стихотворения 1925 года:
Вслушайтесь – здесь и мандельштамовский «злой мотор», и трава на центральных улицах (Надеждинская – нынешняя улица Маяковского), и античный мир, вымораживаемый наступающим холодом.
Михаил Кузмин – личность загадочная Великий мистификатор – когда читаешь его пунктирную биографию, складывается ощущение, что когда ему некому было рассказывать про себя небылицы, он рассказывал их самому себе. Даже собственный год рождения он указывал всякий раз иначе: 1872, 1875, 1877.
Родился он, вроде бы, в Ярославле, детство провел в Саратове, затем – Петербург, дальше – Египет, Италия, поволжские старообрядческие скиты, опять Петербург, «башня» Вячеслава Иванова, шумный успех, салоны, потом – забвенье и тихая смерть в коридоре Мариинской больницы в 1936 году Но все это понарошку На самом деле, как пишет о Кузмине Э. Ф. Голлербах, «он родился в Египте, между Средиземным морем и озером Мереотис, на родине Эвклида, Оригена и Филона, в солнечной Александрии, во времена Птоломеев Он родился сыном эллина и египтянки, и только в XVIII веке влилась в его жилы французская кровь, а в 1875 – русская Все это забылось в цепи перевоплощений, но осталась вещая память подсознательной жизни».
О своих предках он пишет в известном стихотворении, открывающем его первую книгу «Сети»:
В стихотворении этом, как ни странно, почти все правда.
О себе в детстве он вспоминает так:
Я не любил игр мальчиков – ни солдат, ни путешествий. Я мечтал о каких-то мною выдуманных существах: о скелетиках, о смердюшках, тайном лесе, где живет царица Арфа и ее служанки однорукие струны…
Кузмина при жизни воспринимали по-разному
Вот как вспомнит о нем Андрей Белый:
С отчаянья я оказываюсь у Федора Сологуба; и вижу, что нарумяненный, чернобородый, плешивый мужчина в поддевке, на щеки наклеив огромную мушку и рожками вставших висков увенчав свою плешь, – здесь засел; он держал себя томной красавицей, перед которой маститый Иванов, встряхивая белольняною копною волос, лебезил: «Михаил Алексеевич, почитайте стихи».
А вот слова Александра Блока:
Кузмин – писатель, единственный в своем роде. До него в России таких не бывало, и не знаю, будут ли…
«Как это ни странно, – напишет в своих мемуарах Георгий Чулков, – но старопечатный “Пролог” и пристрастие к французскому XVIII веку, романы Достоевского и мемуары Казановы, любовь к простонародной России и вкус к румянам и мушкам, все это было в Кузмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным.»
И герои его произведений часто маги, кудесники, авантюристы, мистификаторы, мастера фантастических превращений – Жозеф Бальзамо, он же граф Калиостро, Симон-маг, доктор Мабузо…
После сказанного понятно, почему роман Апулея, колдуна из Мадавры, как назвал его в предисловии к изданию 1929 года Адриан Пиотровский, самая колдовская из книг, оставленная нам в наследство античностью, вдохновил Михаила Кузмина на долгий переводческий труд.
Замысел перевода «Золотого осла» возник у писателя задолго до революции; окончательный перевод был выполнен в 20-е годы, в 1929 году роман выпущен издательством «Academia» и за предвоенные годы выдержал четыре издания. После войны он тоже издавался неоднократно, но даже сейчас, в наши щедрые на книжные открытия времена, роман читают и перечитывают, и не только в силу того, что это действительно самое занимательное произведение, дошедшее до нас из времен античности, – удивительный талант переводчика, вот что определило незатухающий интерес читателей к этой книге
Как Гнедич – это русская «Илиада», Лозинский – «Божественная комедия», так и имя Михаила Кузмина устойчиво вызывает в памяти ассоциацию с Апулеевой книгой.
Удивительно – об этом еще никто не писал, – но начало «Золотого осла» по музыке совпадает с другой знаменитой книгой, оказавшей на русскую поэтическую культуру влияние не менее сильное, чем Гомеровы поэмы – на греческую Я имею в виду «Слово о полку Игореве».
«Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о полку Игореве, Игоря Святославича?…» – это начало «Слова»
«К рассказу приступаю, чтобы сплести тебе на милетский манер разные басни, слух благосклонный твой усладить лепетом милым…» – так начинается «Золотой осел».
Троянова тропа мирового духа соединила русские степи и горные дороги Фессалии.
В советские времена Кузмин живет тихо и незаметно, к государству относится безразлично, в литературное начальство не лезет, такое складывается ощущение, что он намеренно стремится вычеркнуть себя из действительности, окончательно погрузиться в фантастический мир своих мыслей и своего творчества Книги выходят редко: последняя – в 1929 году, «Форель разбивает лед» И после нее – молчание
«Все заплатили… Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе…» – напишет Марина Цветаева в 1936 году, подводя печальный итог Серебряному веку русской литературы
Практически про Кузмина забыли. В справочниках и учебниках советского времени его имя упоминали мельком, называя поэта то символистом, хотя символизм Кузмин преодолел еще в раннем творчестве, то акмеистом, забывая, что по поводу акмеизма поэт высказывался в свое время определенно и резко, назвав его «выдуманной и насильственной школой, которая с самого начала лезла по швам, соединяя несоединимых Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Зенкевича»; то писателя объявляли идеологом кларизма, вспомнив о его знаменитой статье 1910 года «О прекрасной ясности»; то – стилизатором, не создавшим ничего нового Кем его только ни называли. «Поэзия М. Кузмина – это камерная поэзия, мелкоте ее содержания вполне соответствует весь изобразительный строй», – так писали о нем в советских учебниках для педвузов в 60-70 годы.