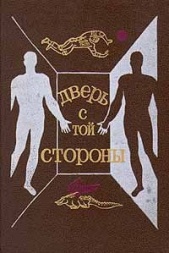Первая молитва (сборник рассказов)

Первая молитва (сборник рассказов) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Агафья отвечает ему: мол, немцы, документы показывали, из плена идут. Они достают документы, протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается: не верю, дескать, подделка.
Тогда один заявляет: «Я — Вебер, он — Браун», — интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад: «Вебирь и Бряун».
Бригадир им снова напоперек: «Бывают такие Вебер и Браун, что и не германцы вовсе». Они разобиделись и стоят на своем: мы не другие какие-нибудь. А он опять: «Что я, германцев не видывал? Не знаю, как они робят? У них, — говорит, — души в безнадежной трезвости пребывают, потому робят они справно. А вы понаделали — кое-как: столбы неровно стоят, жердины приколочены криво, а грязи, грязи понатоптали», — и рукою махнул.
«Ну, значит, — рассказывала мне баба Гаша, — они исть перестали, вынают из карманов нарочитые тряпочки — ложки завертывать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками — чисто-начисто, потом завернули, поспрятывали, поднялись — ну, как тебе по команде! — и ушли. Да: «спасибо» сказали… Мне и ладно: ушли так ушли, мне и до изгороди дела не было: лишь бы крепко, чтобы скотина не забредала. Дал бригадир наряд на завтра, вышла я за ним на крыльцо, глядь: немцы работу свою нарушают. Что ж ты, — говорю, — ирод хромой, нат-ворил? Из-за тебя они теперь разорят все, бросят да и уйдут. Не бросят, говорит. И пошкандыбал себе. Ну, утром собирает он нас на работу, гляжу — все порушено: ох и посмеялись бабы-то надо мной! Зашла, правда, в сарайку — спят работнички… Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху — чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано: столбушок к столбушку, жердина к жердине, где понакопано было — дерн, дорожка песочком посыпана… Одно слово — германцы».
Приходили и еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился. Вероятно, из-за вмешательства бригадира, вмешательства, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных улиц Берлина.
Ходоки эти появлялись нечасто, тем не менее встречи с ними были достаточно заурядны; в селе, где стоит церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали в храм помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они — иной.
Понятно, что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им — отвоевавшимся — предстояло проходить без оружия и без всякой еды.
Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут, они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести, им дано было увидеть — и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего, — как милосерден этот народ к убогим, нищим, к попавшим в беду.
— Вы с ними вроде бы как со странниками? — уточнял я у бабы Гаши.
— Что ты, желанный! Странников в хоромине спать укладывали, а этих — нет: в баньке там или в сарае каком, а в доме — в доме нет… Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут: куда тень — туда и они. Так и шли за своей тенью.
Должник
Андрей Скрябнев — добросовестный ученик новейших оракулов — был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает, и даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженой головы.
«Люба, — писал он жене летом сорок пятого года, — как я и обещал, возвертаюсь в целости и сохранности».
Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине — смерть приняла его в уготованные объятия без задержки.
— Дурак! — сказала бабка Маруся, прочитав похоронку. — Дообещался! — Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. — Мыслимо ли: от гибели зарекаться?! Дурак пятилетошний.
— Поч-че-му-у «пят-ти-ле-тош-ний»? — всхлипывала Люба.
— У пятилеток выучился планы строить: столь зерна, столь картофеля, энтова числа посеем, энтова сожнем… Дурак.
— Не ду-у-рак! — обиделась Люба. — Все же у-учетчик!
— А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть! Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет: тот, скажем, плотник, тот — кузнец, тот — пастух… Это уж совсем напрасные, те — учетчики… И чего ты в нем только нашла?
— Га-ли-фе-э-э! — заревела новоявленная вдова. — Ди-го-на-ле-вы-е-э-э…
— Ну да оно и ты дура, — вздохнула мать. — Какой с тебя спрос-то?.. Эх, Андрю-ша-Андрю-у-шень-ка-а!.. На кого же ты нас о-оста-а-вил?.. — И обе женщины зарыдали в голос.
Лучшее средство от скорбей — новые скорби: не успело пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам — это двенадцатилетний Петька Скрябнев вышел с фугасом на голавля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась — есть что-то надо было… Да и хлопало тихохонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший: он потряс — в том смысле, что тряханул — Любу, и она испугалась.
— Должно, новый склад отыскал — с большими бонбами, — определила бабка Маруся. — Сам-то не сгинул ли?..
Однако Петькин черед еще не наступил, и даже кое-какой рыбешкой перепало разжиться — ее вместе с поворотом реки забросило в поле.
— Ты вот что, — сказала бабка Маруся дочери. — Пока он не подзорвался да не отправился вослед за отцом, катись-ка к Наталье — сколь уж она тебя звала, с сорок второго, чай…
Так Петька Скрябнев попал в Москву.
Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья — койки в бараке.
— Утрамбуетесь: он у тебя доходяга — чисто клоп, да и ты не больно кругла. А там видно будет: может, уедет кто или помрет — коечка и освободится.
В ту пору необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно: народные бедствия благоприятны для волков, ворон и воров.
Подростки и прочая мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно: «Сокольники» шли на «Измайлово», «Роща» на «Пресню»…
Наивные участники баталий не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов.
На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся «Хорошевкой». Атаманил в ней Валерка Бакшеев, по кличке Бак. Было ему лет семнадцать: фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, «ша, падла», «попишу-порежу» — все как положено. Хатой Валерке служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, по днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом сорок первого года после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов.
Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим: «Не трогать».
Целый год Петьку никто не «трогал». Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках: саней тогда не было, из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых, друг за дружкою, устанавливалось до пяти человек.
Видел Петька и побоища: «Сокол» на «Хорошевку», «Тушино» на «Хорошевку». Собиралось человек по шестьдесят — семьдесят с каждой стороны, дрались всякий раз в овраге. Как правило, ограничивались «кровянками» — множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития.
Осенью с обрыва сброшен был к реке «воронок» — один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским.
Горячечные эти события привораживали Петьку: всякий раз он оказывался рядом. И, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору не предназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным: громила Аверкин задержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев; труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с «воронком» группа усердствовала на ниве пресечения беспорядков. Бак свистнул, хорошевские, бросая колья, побежали наверх и, когда набралось человек двадцать, машину столкнули. Перевернувшись на дне оврага, она загорелась и взорвалась.