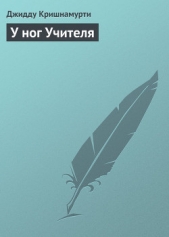Записные книжки

Записные книжки читать книгу онлайн
«Записные книжки» содержат тексты ежедневных записей Джидду Кришнамурти с 18 июня 1961 г. по 23 января 1962 г. Это записи наблюдений природы, наблюдений состояний сознания. Это глубокие проникновения во внутренний мир человека: сила их света делает очевидной всю разрушительность энергетики психологических структур, как для самого человека, так и для всего, что существует на земле, живого и неживого. Много мест этих записей могут показать, с какой реальностью встречается мозг, свободный от помех эгоцентрической обусловленности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Было очень тихо, ни один лист не шевелился, и было темно; и все звёзды, какие только могли заполнить реку, были в ней, и они выплёскивались в небо. Мозг был абсолютно спокойным, но очень живым и внимательным, наблюдая без наблюдающего, без центра, из которого он наблюдает, и не было никаких ощущений. Иное было здесь, глубоко внутри, на неизмеримой глубине; оно было действием, смывающим всё, не оставляя следов того, что было, или того, что есть. Не было пространства, чтобы иметь границы, и не было времени, в котором могла бы сформироваться мысль.
3 января
Есть что-то необычайно приятное в том, чтобы гулять одному далеко от города по тропе, которую тысячелетиями использовали пилигримы; около неё есть очень старые деревья, тамаринд и манго, и она проходит через несколько деревень. Она идёт между зелёными полями пшеницы; под ногами она мягкая, тонкая, сухая пыль, в сырую же погоду должна стать вязкой глиной; мягкая, тонкая земля въедается в ваши ноги, проникает вам в нос и глаза, но не слишком сильно. Здесь есть древние колодцы, храмы и слабеющие, увядающие боги. Местность плоская — плоская, как ладонь руки, — и простирается до горизонта, если здесь есть горизонт. На тропе очень много поворотов, за несколько минут она поворачивает во все стороны света. Кажется, что и небо следует этой тропой, открытой и дружелюбной. Мало в мире троп, подобных этой, хотя у каждой своё очарование, своя красота. Есть тропа [в Гштааде], идущая через долину, мягко поднимаясь между обильными пастбищами, на которых собирают корм для коров на зиму; эта долина становится белой от снега, но тогда [когда он был там]был конец лета, богатый цветами, вокруг высились заснеженные горы, а через долину бежал шумный поток; на этой тропе почти никого не бывало, и вы гуляли по ней в безмолвии. Есть ещё другая тропа [в Охайе], круто взбирающаяся по склону сухой, пыльной и осыпающейся горы; она была каменистая, неровная и скользкая; нигде поблизости не было ни одного дерева или даже куста; куропатка с новым выводком малышей, их было больше дюжины, была там, а ещё дальше вверх вы натыкались на смертоносную гремучую змею, которая совсем свернулась, готовая ударить, но давала вам честное предупреждение. Но сейчас тропа эта была не похожа ни на какую другую; она была пыльная, замусоренная тут и там людьми, и здесь же стояли разрушенные старые храмы с их идолами; большой бык вволю кормился среди растущих хлебов, никем не тревожимый; были ещё обезьяны и попугаи и этот свет небес. Это была тропа тысяч людей в течение многих тысяч лет. Идя по ней, вы исчезали; вы шли без единой мысли, вокруг же было это невероятное небо и деревья с густой листвой и с птицами. На той тропе есть манговое дерево, оно великолепно; у него так много листьев, что ветвей нельзя увидеть, и оно очень старое. Когда вы идёте, никакого чувства нет вообще; мысль тоже ушла, но есть красота. Она наполняет землю и небо, каждый листок и стебелёк увядающей травы. Красота покрывает здесь всё, и вы принадлежите ей, вы входите в неё. Ничто не заставляет вас чувствовать это, но она здесь, и именно благодаря тому, что вас нет, она здесь, без слова, без движения. Вы возвращаетесь в тишине и угасающем свете.
Каждое переживание оставляет след, каждый след искажает переживание; так что нет такого переживания, которого уже не было бы раньше. Всё старо — и нет ничего нового. Но это не так. Все следы всех переживаний смываются — мозг, эта кладовая прошлого, становится абсолютно спокойным и бездвижным, без реакции, но живым и чувствительным; тогда он теряет прошлое и опять становится новым.
Оно было здесь, то беспредельное, не имеющее ни прошлого, ни будущего; оно было здесь, не зная даже настоящего. Оно наполнило комнату, выходя за пределы всех измерений.
5 января
Солнце выходит из деревьев и заходит над городом, и между деревьями и городом — вся жизнь, всё время. Между ними протекает река, глубокая, живая и спокойная; множество маленьких лодок движутся по ней вверх и вниз; некоторые, с большими квадратными парусами, везут дрова, песок и тёсаный камень, а иногда мужчин и женщин, возвращающихся в свои деревни, но в большинстве своём это маленькие рыбачьи лодки с худыми смуглыми людьми. Они выглядят счастливыми, говорливыми, они перекликаются и что-то кричат друг другу, и хотя все они одеты в лохмотья и у них нет возможности много есть, но обязательно — множество детей. Они не умеют читать и писать, у них нет никаких внешних развлечений, никакого кино и прочего, но они развлекают себя сами, исполняя хором благочестивые песни и гимны и рассказывая религиозные истории. Все они очень бедны, и жизнь их очень трудна; болезнь и смерть всегда здесь, как земля и река. Этим вечером было больше, чем всегда, ласточек, летающих низко, почти касаясь воды, вода же была цвета угасающего огня. Всё было таким живым, таким интенсивным; четыре или пять толстых щенков играли вокруг своей тощей, голодной матери; вороны, множество их групп, перелетали обратно на другой берег; попугаи возвращались к своим деревьям, в своей обычной манере, молниеносно и крикливо; поезд переезжал мост, его шум далеко разносился по реке, и женщина совершала омовение в холодной реке. Всё старалось выжить; битва за саму жизнь — и всегда смерть; бороться каждое мгновение жизни, а потом умереть. Но между восходом солнца и его заходом за стенами города время вбирало в себя всю жизнь — время прошлое и настоящее выедало сердце человека; человек существовал во времени и потому знал скорбь.
Но крестьяне, идущие позади, по узкой тропе у реки, вытянувшись в цепочку друг за другом, каким-то образом были частью человека, который шёл впереди; их было восемь, и старик, шедший сзади первым, всё время кашлял и плевал, другие же шли более или менее молча. Идущий впереди осознавал их, их молчание, их кашель, их усталость после долгого дня; все они были не возбуждены, спокойны, скорее даже веселы. Он осознавал их, как он осознавал мерцающую реку и мягкий огонь небес и птиц, возвращающихся в свои убежища; не было центра, из которого он видел, чувствовал, наблюдал; всё это подразумевает слово, мысль. Мысли не было, лишь всё это. Все они шли быстро — и время перестало существовать; эти крестьяне возвращались домой, к своим хижинам, и человек шёл с ними; они были частью его, не в том смысле, что он осознавал их частью себя. Они текли с рекой, летели с птицами и были такими же открытыми и широкими, как небо. Это было фактом, не воображением; воображение — это подделка, факт же — жгучая реальность. Все девять шли бесконечно, идя и никуда и ниоткуда; это была бесконечная процессия жизни. Время и всякая индивидуальная обособленность удивительным образом прекратились. Когда человек впереди повернул, чтобы идти назад, все крестьяне, особенно старик, кто был так близко, сразу за ним, приветствовали его так, будто они были старинными друзьями. Темнело, и ласточки улетели; на длинном мосту загорелись огни, и деревья погружались в себя. Вдали в храме звонил колокол.
7 января
Здесь есть узенький канал, около фута шириной, который идёт между зелёными полями пшеницы. Вдоль него есть тропа, и вы можете идти по ней достаточно долго, не встретив ни души. Этим вечером на ней было особенно тихо и спокойно; и толстая сойка с поразительно яркими синими крыльями пила воду в этом канале; сойка была жёлто-коричневая с этими своими потрясающими синими крыльями; она не относилась к числу скандальных соек, и вы могли подойти к ней почти вплотную, без того, чтобы вас обругали. Она глядела на вас в удивлении, вы смотрели на неё со вспышкой симпатии; она была толстая, довольная и очень красивая. Сойка выжидающе смотрела, что вы будете делать, и поскольку вы ничего не делали, она успокоилась и вскоре улетела, не издав ни единого звука. Вы встретили в этой птице всех птиц, когда-либо появлявшихся на свет, — это сделала та вспышка. Это не была хорошо спланированная, продуманная вспышка; она просто произошла, с интенсивностью и неистовством, само потрясение от которых остановило всякое время. Но вы шли по этой узкой тропе дальше, мимо дерева, которое стало символом храма, так как там были цветы и грубо размалёванный образ, идол, а храм был символом чего-то другого, и это что-то другое в свою очередь было гигантским символом. Слова, символы, подобные флагу, стали ужасающе важными. Символы были пеплом, который питает ум, а ум был бесплоден, и мысль рождалась в этой пустыне. Она была умной, изобретательной, как всё, что выходит из бесплодного, иссушающего небытия. Но дерево было великолепным, на нём было полно листьев, оно давало приют множеству птиц; земля вокруг него была подметена и содержалась в чистоте; люди построили вокруг дерева платформу из глины, и на ней стоял идол, прислонённый к толстому стволу. Листок погибает быстро, но каменный идол — нет; он будет стоять, разрушая умы.