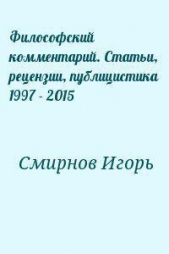Эмбриология поэзии

Эмбриология поэзии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Цели нет передо мною
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум
Вспомнил о нем, вызвал его и через два года, когда писал «Чтб в имени тебе моем…» Тихо, но очень действенно появляется здесь это у в первой уже строфе (я учитываю и неударные, слабее звучащие, но все же играющие роль, наряду с ударными):
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный,
Волны плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом…
К концу стихотворения звук этот возвращается в рифмах «тоскуя», «живу я». И в том же году начинает он последнюю Элегию:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл.
Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать
Я жить хочу…
Далее речь идет о надеждах, и угрюмое у сходит на нет. Не то, чтобы эта гласная попросту исчезла (есть даже повторы ее: «и ведаю, мне будут наслажденья»); она лишь перестает быть угрюмой, перестает быть выразительной, значимой (т. е. наделенной звукосмыслом). Кто же, однако, определяет, где такой‑то звук значим и где он не значим? Тот, кто умеет (или думает о себе, что умеет) читать поэтов. Но ведь это «субъективизм», это чисгый произвол! Не совсем; произвол, каприз я могу — в себе — ограничить, обуздать; но без самого себя обойтись не могу. Никакой вполне объективный анализ звукосмысла или поэзии вообще (поскольку смысл из нее не исключен) дальше сравнительно маловажных подступов к ней идти не может. Никакою мерою нельзя измерить, ни на каких весах нельзя взвесить значимость приобретаемую звуком в связи со смысловой окраской, присущей ему (но отнюдь не всегда действенной и ощутимой) или со смыслом — дополнительным смыслом — который ему поручено бывает выразить. Так же неразумно это осмысление звуков отрицать, как и считать его всегда готовым к услугам и повсюду одинаковым.
* * *
В университетском учебнике В. Е. Холшевникова «Основы стиховедения» (2–е изд. Л., 1972. С. 86) приводится в русском переводе знаменитый сонет об «окраске» гласных Рембо, после чего говорится, что «звуки сами по себе лишены и вещественного, и эмоционального содержания». В доказательство этого — от перехода из рук в руки не становящегося более верным — утверждения автор приводит повторы все той же возлюбленной мною гласной у Некрасова («Быстро лечу я по рельсам чугунным, / Думаю думу свою…» и «Умер, голубушка, умер, Касьяновна / Чуть я домой добрела…») и в стихах (для детей) Чуковского («Муха, Муха, Цокотуха / Позолоченное брюхо»). В некрасовских стихах, пишет Холшевников, «у звучит действительно печально, заунывно», тогда как у Чуковского «оно кажется задорным и веселым». Тут прежде всего следует заметить, что цокотухино у вовсе не кажется ни задорным, ни веселым: оно просто не являет своих природных качеств, не «звучит»; воспринимается повтор, а не оно, — в противоположность чему «умер, голубушка» или «думаю думу свою» воспринимается как повторное завыванье именно этого звука, незаменимого другим. А затем надлежит всячески протестовать против смешения этого рода звуко- смысловых энтелехий с той расцвеченностью гласных, отдельным лицам свойственной и у разных лиц совершенно разной, о которой говорится в сонете Рембо. Или верней о которой там, несмотря на сотни страниц об этом исписанных, вовсе не говорится: «Пребывание в аду» недвусмысленно оповещает нас о том, что цвета гласных были выдуманы мальчиком–поэтом [160]-. Что же до «звучащих» у, то у того же Некрасова, в начале знаменитого его стихотворения «Еду ли ночью по улице темной…» и еще во второй его строке («Бури заслушаюсь в пасмурный день») и еще в слове «друг», начинающем третью строку, оно и звучит, и жалуется, и плачет, а в начале четвертой («Вдруг…») перестает «звучать», из мелодии выпадает и даже весьма досадно вступает в конфликт с только что прозвучавшим «друг», после чего («Сердце сожмется мучительной думой» и рифма «угрюмой») прежняя заунывная музыка снова вступает в свои права.
Столь же неосновательны возражения, выдвигаемые против выразительных возможностей — именно возможностей, а не присущих неизменно свойств— все того же звука, выдвигаемые в недавно вышедшей книге Б. П. Гончарова «Звуковая организация стиха» (М., 1973. С. 115). Здесь цитируется «Бородино»: У наших ушки на макушке! / Чугьугро осветило пушки / И леса синие верхушки, / Французы туг как тут. / Забил заряд я в пушку туго / И думал:; угощу я друга!…» Андрей Белый полагал («Жезл Аарона», 1917) что французы тут «представлены» звуком у [161], а «описание мужества русских сопровождает звук а» (не привожу соответственных стихов: повторы а вовсе там не выразительны). Недавний исследователь, А. Гербстман, высказывает сходное мнение. Возражения Гончарова, по адресу такого рода фантазий, совершенно справедливы; он однако не видит, что повторяется, в приведенных им строчках, не протяжное, длящееся у (как в «Грузии), а отрывистое, куцое, выразительные возможности которого (совсем другие и действенные лишь в повторе) использованы здесь Лермонтовым очень хорошо [162]. Немецкий ученый, М. Вандрушка в давней уже статье, отметил, что та же самая гласная — не у, на этот раз, aw — может «изобразить» и крошечное («винциг»), и огромное («ризиг»), в зависимости от того, какие ее особенности выступают на первый план [163], да и просто, прибавлю от себя, сообразуясь с тем, коротенький ли это звук, как в первом случае, или долгий, «р–и-и- изиг», который можно еще, шутки ради, и растянуть подлиннее. Специалистам полезно бывает не слишком увязать в своей специальности, а славистам и другими языками «владеть», кроме славянских.
Трудно было бы нашим поэтам без и и без у! Начал Тютчев «Люблю глаза твои, мой друг…» (тут‑то эти у не столь еще заметны), а когда, во второй строфе, до главного, что хотел сказать, договорился, не смог‑таки без этого назойливого звука обойтись:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.
А бедняга Фет до того дошел к середине века, что в стихотворении «Больной» стал русский язык перекраивать на свой лад. Первые строки этого стихотворения читаются нынче— по изданию 1856 года, проредактированному Тургеневым —
Его томил недуг. Тяжелый зной печей
Казалось, каждый вздох оспаривал у груди,
но в «Современнике» 1855 года (т. 50) первый стих читался:
Его томил недуг. Щедушный жар печей…
Очевидно, после «недуга», так страстно захотелось Фету, еще раз продудеть в дуду, что он на минуту вообразил существующим слово (вроде «тщедушный», но с другим значением), да так рукопись Некрасову (?) и послал. Тот (если это был он) Фета ценил; не поправил… Но почему же понадобилось поэту второе <)у? Потому и понадобилось, что был он не «литературоведом», а поэтом.
Чужеземные ведь тоже порой — и даже к этому самому звуку — бывали неравнодушны. Тик, романтик немецкий, целую главу дремучих жутей и ужасов «пустил на у» в своей поэме «Лесные знаменья». И еще до него в «Мессин- ской невесте» Шиллера, самый трагический хор четвертого акта звучит сумрачным этим звуком. А из более близкого к нам времени могу привести чудесное начало стихотворения Рильке, «Смерть возлюбленной» (1907):
Er wusste nur vom Tod, was alle wissen: dass er uns nimmt und in das Stumme stosst [164].
На расстоянии более, чем ста лет, те же звуки — эр, эмм, штэмм — сходную выполняют службу, но играют роль у Рильке и «вэссте (нэр)», и свистящие в рифмах. Мог бы я привести и английские примеры (латинский привел уже в предыдущей статье). Да и французы… Например забытый во