Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие
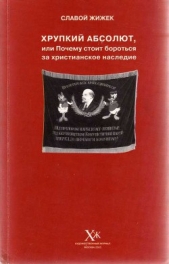
Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Объект фантазии, образ и пафос — другой элемент, занимающий место того, чего субъект символически лишен. Таким образом, воображаемый объект находится в том положении, из которого он должен вместить в себя достоинства или качества существа, стать той истинной его уловкой, которую Симона Вайль рассматривает, сосредоточиваясь на богатых и в то же время туманных отношениях человека с объектом его желания — на отношениях Скупого у Мольера с его драгоценным сундуком. Это — кульминация фетишистского характера объекта в желании человека. <..> Туманный характер объекта a в воображаемой фантазии определяет его в его наиболее ярко выраженной форме в качестве полюса перверсивного желания. [93]
Так что если мы хотим разобраться в тайне желания, то нам следует сосредоточить внимание не на любовнике или убийце, этих пленниках страсти, готовых поставить на карту все что у них есть, но на отношении скупого с его сундуком, заветным местом накопления и хранения богатств. Тайна, конечно же, заключается в том, что в фигуре скупого избыток совпадает с недостатком, могущество — с бессилием, алчное накопление запасов — с возвышением объекта до уровня запретной, неприкасаемой Вещи, которую можно лишь наблюдать, но которой нельзя в полной мере наслаждаться. Разве не об этом ария Бартоло «А un dottor della mia sorte» из первого акта «Севильского цирюльника» Россини? Его навязчивое безумие совершенно точно передает его полное безразличие к сексуальному обладанию юной Розиной. Он хочет на ней жениться, чтобы завладеть ею подобно тому, как скупой владеет своим заветным сундуком. Говоря философским языком, парадокс скупого в том, что он соединяет две несовместимые этические традиции: аристотелевскую этику умеренности и кантовскую этику безусловного требования. Следование правилу умеренности, бегство от избытка порождает свой собственный избыток, свое собственное прибавочное наслаждение.
Однако капитализм выворачивает эту логику: капиталист — это уже не одинокий скряга, привязанный к скрытым сокровищам, украдкой, за тщательно закрытыми дверями взирающий на свои богатства, но субъект, следующий главному парадоксу: единственный способ сохранения и умножения ценностей — их трата. Формула любви, которую произносит со своего балкона Джульетта («чем больше я даю, тем больше остается») подвергается перверсивному вывиху. Разве эта формула не передает капиталистическую авантюру? Чем больше капиталист инвестирует (и занимает денег, чтобы инвестировать), тем больше у него их оказывается, так что, в конечном счете, перед нами чисто виртуальный капиталист а-ля Дональд Трамп, чья наличность, «собственный капитал» практически равен нулю или даже в минусе, но при этом с учетом его грядущих доходов он слывет «богачом». Возвращаясь к гегелевскому «противоположному определению», можно сказать, что капитализм вращается вокруг понятия расчета, скупости как противоположного определения (формы видимости) производства желания (т. е. потребления объекта): род здесь — алчность, в то время как избыточное безграничное потребление есть сама алчность в форме видимости (противоположного определения).
Этот основополагающий парадокс позволяет нам даже разрабатывать элементарную маркетинговую стратегию, обращенную к потребительской скупости. Разве не таков основной призыв рекламных роликов «Купи это, потрать больше, и ты сэкономишь, ты получишь еще часть задаром!»? Вспомните хорошо всем известную сцену (вполне в духе мужского шовинизма): жена приходит домой после похода за покупками и сообщает мужу: «Я только что сэкономила 200 долларов! Я хотела купить одну куртку; но купила три и получила скидку в 200 долларов!» Воплощением подобного рода прибыли может служить тюбик зубной пасты, треть которого окрашена в другой цвет и на фоне которого большими буквами написано «30% бесплатно!» Мне всегда хотелось, глядя на этот тюбик, сказать: «Ладно, давайте мне эти 30%!» Определение «собственной цены» при капитализме — цена скидки. Уже надоевший ярлык «общество потребления» справедлив лишь в том случае, если под потреблением понимать его противоположность — сбережение.
Здесь мы должны вернуться к Гамлету и ритуальной стоимости: ритуал — это, в конечном счете, ритуал жертвоприношения, открывающий пространство изобильного потребления. После принесения богам внутренностей жертвенного животного (сердца, кишок) мы вправе от всего сердца наслаждаться оставшимся мясом. Вместо разрешения на свободное потребление без жертвоприношения, современная «тотальная экономия», которая пытается обойтись без этого «излишнего» ритуализованного жертвоприношения, порождает парадоксы расчетливого сбережения. Нет никакого изобильного потребления! Потребление разрешено лишь постольку, поскольку оно функционирует как форма проявления своей противоположности. Разве не был нацизм отчаянной попыткой восстановления ритуальной стоимости в ее правах посредством Холокоста, этого гигантского жертвоприношения «мрачным богам», как говорит Лакан в своем Одиннадцатом семинаре? [94] В жертву приносили евреев как воплощение капиталистического парадокса расчетливого сбережения. Фашизм следует отнести к попыткам сопротивления капиталистической логике: помимо фашистской корпоратистской попытки «вновь установить равновесие», удалив излишек, воплощенный в «еврее», следует отметить и стремление восстановить домодернистский суверенный жест чистой траты. Достаточно вспомнить фигуру наркомана, единственного подлинного «субъекта потребления», единственного, кто растрачивает себя до смерти в неограниченном наслаждении [95].
14. «ДОЛЖЕН, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕШЬ!»
Давайте проясним этот крайне важный момент, обратившись к хорошо известной и весьма бестактной защите Гитлера. Его защитники говорят: «Да, действительно, Гитлер допустил всякие ужасы, пытаясь избавить Германию от евреев, но не стоит забывать и о том хорошем, что он сделал, — о строительстве дорог, о том, что благодаря ему поезда стали ходить по расписанию!» Вся эта защита, несмотря на формальное осуждение антисемитского насилия, конечно же, является скрытым антисемитизмом: само сравнение антисемитского кошмара со строительством дорог, а также высказывания типа: «Да, я знаю, однако…» четко указывает на то, что хвала гитлеровскому строительству дорог — это по сути дела смещенная похвала его антисемитским деяниям. Критика Гитлера со всеми этими разговорами о его вкладе в строительство дорог (популярная в отдельных весьма консервативных экологических кругах) неприемлема потому, что под маской критики скрывается желание защитить Гитлера: «Да, действительно, Гитлер сделал кое–что хорошее, например постарался освободить Германию от евреев, но мы не должны забывать, что он совершил и ужасные вещи — понастроил дорог и тем самым испортил окружающую среду страны…» Подобного рода переворачивание — подлинное содержание распространенной защиты сторонников крайне правого расистского насилия: «Да, он участвовал в линчевании афроамериканцев, но не стоит забывать, что он был добропорядочным честным семьянином, регулярно посещал церковь…» Мы должны читать это следующим образом: «Да, он совершал хорошие поступки — пытался избавить нас от этих мерзких афро–американцев, и все же не стоит забывать, что он был заурядным отцом семейства, регулярно посещавшим церковь…» Ключ к такого рода переворачиванию и в одном, и в другом случае в том, что мы имеем дело с напряжением между общественно признанным и допустимым идеологическим содержанием (строительство дорог, посещение церкви) и его неприемлемой теневой стороной (Холокостом, линчеванием): первая, общепринятая версия высказывания признает общественное содержание и отвергает теневую сторону (одобряя ее втайне); вторая версия открыто не признает общественное мнение и поддерживает теневую сторону. Поскольку, в связи с дуальностью «официального» общественного символического повествователь- ного пространства и его призрачного двойника, общественное символическое пространство регулируется символическим законом, то возникает вопрос: какого именно рода закон действует в жуткой области его призрачного двойника? Ответ, конечно же, лежит в области сверх-я [96]. Не следует забывать, что напряжение между символическим законом и невозможной/реальной вещью, доступ к которой запрещен законом (в конечном счете, материнская вещь запрещена отцовским законом), не является для Лакана пределом. То, что лежит по ту сторону (или скорее по эту), — жуткая вещь, которая сама «создает закон»:























