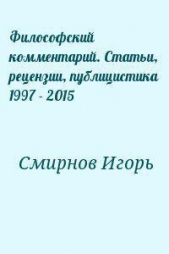Эмбриология поэзии

Эмбриология поэзии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К этому я вернусь. Сперва, однако, приведу еще одну фразу, знаменитый стих Жуковского, определяющий поэзию: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» [119]. Фраза эта — такой же александриец, как и стих Крылова, но с цезурой после ударного слога, что при отсутствии ударения на предыдущей стопе очень выразительно приподнимает этот слог над мелодической линией стиха и над упоминаемой далее землею, — куда второе полустишие опускается по широким—одинаковой ширины— ступеням: тых, nuix— святых, мечтах. Предметное значение слов тонет в их смысле, и самый смысл этот (предложения, как и слов) расплывчат; более расплывчат, чем в пушкинском стихе «Всё в ней гармония, всё диво», где местоимение восстанавливает единичную предметность или конкретность, которая в стихах Жуковского отсутствует. О какой поэзии идет речь? О воплощенной в творении поэтов, об имеющей воплотиться? Или о неподдающейся словесному воплощению? О каком Боге? О христианском? или скорей о некоем верховном, но не очень определенном «божестве»? О каких мечтах? Святых, потому что к Богу обращенных, или священных уже потому, что обращены они к поэзии? Да ведь и мечтает, конечно, не земля; мечтают люди на земле, поэты, — уничтожая тем самым предметность единственного слова в стихе, которое могло бы ею обладать. Но смысл у этого стиха есть. Целую философию искусства можно извлечь из него, или, верней, целую пригоршню философий — различных, хоть и одинаково возвышенных— в зависимости от толкования, которое мы ему дадим и которое смысл его неизбежно обеднит и сузит. Обозначению этот смысл не подлежит, но выражению доступен и стихом этим превосходно выражен.
Для правильного применения понятия «выражение», а поэтому и для наших дальнейших рассуждений, как и для теории искусства вообще очень важно подчеркнуть, что вовсе не какое‑нибудь свое «чувство» или «эмоцию» выразил Жуковский этим стихом. Он выразил им свою мысль, но мысль не поддающуюся обозначению и не отделенную полностью от связанных с ней «чувств», то есть содержаний сознания не чисто интеллектуальных, и уж конечно не чисто практических или рассудочных. Теоретики литературы или авторы эстетических трактатов, ставящие во главе угла понятие выражения, но толкующие это понятие чисто эмоционально, как «выражение чувства», компрометируют этим свою теорию. Выражение, в поэзии, как и в любом искусстве, есть изъявление смысла, не допускающего передачи посредством знаков и знаковых систем, но и не сводимого к чистой эмоции или чистому ощущению. Поэтическая речь отличается от нарочито непоэтической не тем, что ей чужда мысль, а тем, что весь человек присутствует в высказываемых ею мыслях. Выразить он может всего себя; обозначить себя может лишь своим именем или местоимением первого лица. Что же до чувств, то они могут и выражаться, и обозначаться, да постоянно и подвергаются обозначению. Когда я пишу «примите выражение моего искреннего соболезнования», я соболезнование это вовсе не выражаю, а всего лишь обозначаю, хотя, быть может, и нашлись бы у меня слова, способные, хоть отчасти, его выразить. Отчасти или сполна, больше или меньше, — к обозначению такие квалификации не подходят, подходят только к выражению. Но слова «выражение», «выражать» ни на каких языках не выражают больше ничего. «Выражениями», в математике и логике, называют как раз формулировки, достигаемые обозначением, а не выражением. Однако замены этому слову нет, и понятие, обозначаемое им, при всей зыбкости своей драгоценно. Постараемся зыбкость эту умерить, а драгоценность укрепить, не упуская из виду ни родства, ни раздора, делающих это понятие параллельным понятию обозначения, но и решительно ему противоположным.
Необходимо, прежде всего, две вкладываемые в него мысли устранить, постоянно вводящие нас в заблуждение, когда мы о поэтическом или другом искусстве говорим, хотя поэты, художники, теоретики сплошь и рядом ошибок отсюда проистекающих не замечают. Выражение нельзя считать в искусстве чем‑то непроизвольным, вроде стона, вызванного болью, а если и признавать его намеренным, нельзя представлять его себе прямым: пусть и желаемым мною, но непосредственным обнаружением чего‑то, что было сознано моим, а воспринято будет чужим сознанием. Если я закашлялся на людях, им это могло показаться «выразительным», или отчетливо выразившим степень моей простуды; но я этим кашлем ничего выражать не предполагал, а значит и не проявил им ни малейшего искусства. Если же актриса кашляет на сцене, играя роль чахоточной «дамы с камелиями», то тут и выражение будет иметь место и художество, но лишь поскольку зрителем кашель будет приписан самой этой даме, а не актрисе. Даже поэт, которому Богом «дано было высказать свое страданье», как Гёте, поручил сообщить нам своему Тассо, а позже его словами сказал о себе самом, должен найти вот именно слова, которые их выразят — тут‑то ему божья помощь и нужна. Слова, и звуки, и голос. Поэта найти в человеческом своем естестве, а не то вместо выраженья получится у него либо стон, чту равняется кашлю актера, а не действующего лица (и может быть названо выраженьем лишь в непригодном для искусства значении слова), либо невыразительное обозначенье, как у меня, когда я мое искреннее (отчего бы и нет?) соболезнование — заявил, что выражаю, а выразить не выразил. Если так выразительны слова Блока о себе: «Уж он — не голос, только — стон», то ведь говорит он стихами, да и не он говорит, а из самого себя созданный им автор и этих и всех остальных блоковских стихов.
В сентябре 1822 года, из Кишинева, Пушкин писал Гнедичу о «Шильон- ском узнике»: «Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить». Как умно! И какими болванами все мы были в России, не сумев за полтораста лет даже и прочесть этого должным образом! Одним этим в двадцать три года найденным «перевыразить» — о труде и подвиге перевода сказано в сущности всё: остается лишь разжевывать эту мысль. Но едва ли не еще богаче та — червонцами они у него сыпались словно из дырявого кармана — чтб вложена в простое «выразить», примененное к признакам сумасшествия, которые Байрон «выразил» и Жуковский «перевыразил», хотя ни тот ни другой их не проявлял и не испытал. Байрон выразил испытанное не Байроном, а Бониваром. Только в таком смысле и надлежало бы это слово, в делах поэзии и поэтической речи применять, — даже когда мы говорим о чем‑то испытанном самим Байроном. Скажут пожалуй: Пушкин обмолвился, хотел сказать не «выразить», а «изобразить». Гениальная это была бы обмолвка, но я думаю, что ее не было. Молниеносно — со свойственной ему быстротою выбора — Пушкин почувствовал то, что Гёте внушила поздняя его мудрость, когда он канцлеру Мюллеру сказал, что художнику необходимо изображаемый им предмет сперва заново создать в самом себе, то есть сделать его частью своего внутреннего мира, дабы иметь возможность его выразить [120]. Изображение, в поэтической речи, как и во всяком искусстве теснейшим образом связано с выражением; на эту тему нам еще придется многое сказать; но когда очередь до этого дойдет, первое что нужно будет подчеркнуть, это что во всяком искусстве выражение первенствует над изображением. Не может быть в поэзии, в поэтической речи, в искусстве никакого изображения без выражения. Когда изображение обходится без выражения, оно или прибегает к обозначению или становится чем‑то аналогичным ему, с ним сходным в своем внутреннем устройстве. Что же до выражения, как мы ветви этого во все стороны разросшегося понятия ни подстригали, оно осталось самим собой. Ничем его не заменить.
Нечем и самого выражения заменить; и оно, при всех опосредствованиях своих (не я выражаю: слова мои выражают), при всей очеловеченности своей членораздельным смыслом, хранит черту, свойственную и первобытному, еще животному рычанью или щебетанью. Обозначенное сцеплено в рассудке нашем, с тем, что его обозначает, — знаком, сигналом, значком; но в умозрении и восприятии отрезано от него, как толчок тормоза от красного огня; не являет никаких родственных ему качеств. Выраженное, напротив, с выражаемым не разобщено; тут не перерыв, а непрерывность; оно, можно сказать, продолжает быть выражаемым, тогда как обозначенное — всё, что угодно, только не обозначивший его знак. О материнской улыбке Макс Ше- лер сказал, что ею дана младенцу не улыбка, не выражение любви, а сама любовь [121]. Здесь только частица «не» излишня: в улыбке дана любовь, выражаемое в выраженном, но для того чтобы выразить и дать, понадобилась все‑таки улыбка. Снова стеной вырастает перед нами и застилает горизонт бессмертное двустишие Шиллера о неявленности духу живого духа: