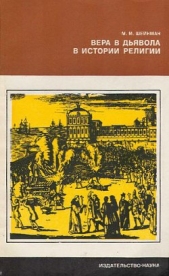Введение в христианство

Введение в христианство читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К этому присоединяется еще одно. Если иметь в виду реальное положение Израиля, то применение формулы восточного ритуала к царю Израиля, как это имеет место в упомя-нутом Псалме, должно было казаться жестокой шуткой. Когда египетскому фараону или вавилонскому царю при их интронизации возвещалось: «Народы даны тебе в наследие, мир принадлежит тебе, ты можешь разбить их и сокрушить, как сосуд горшечника», — то это имело некий смысл. Такие сло-, ва соответствовали претензии этих царей на мировое господство. Если же они относятся к царю на Сионе, что при наличии сверхмощных Вавилона и Египта было совершенно бессмысленным, они оборачиваются чистой иронией, потому что ; цари Земли не дрожали перед ним, напротив, — скорее он дрожал перед ними. И если о мировом господстве говорит жалкий князек, каким он и был, то это звучит почти смехотворно. Иными словами: заимствованное из восточного ритуала царская мантия псалма была слишком не по плечу реальному царю на горе Сион. Поэтому-то этот псалом, который должен был производить невыносимое впечатление на современников, с исторической неизбежностью все более и более превращался в исповедание надежды на то, что некогда он обретет реальное значение. Это значит, что богословие царя, которое на первой ступени превратилось из богословия рождения в богословие избранничества, на следующем шаге стало богословием надежды на грядущего царя. Пророчество о царе все более и более становилось обетованием: однажды придет царь, о котором можно будет по праву сказать: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня и Я дам народы в наследие Тебе».
Здесь-то и начинается новая жизнь этого текста в первоначальной христианской общине. Слова этого псалма впервые относятся к Иисусу, по-видимому, в рамках веры в воскресение. Тот момент, когда свершилось воскресение Иисуса из мертвых, в которое верила эта община, первые христиане поняли как реальное исполнение 2-го псалма. В этом был, конечно, не меньший парадокс. Ведь верить в то, что умерший на Голгофе и был тем, о ком были сказаны эти слова, казалось неслыханным противоречием. Что же означало такое применение текста? Это значило сознавать, что надежда Израиля на царя исполнилась в Том, Кто умер на кресте и — в глазах верующих—воскрес. Это означало быть убежденным в том, что именно Ему, умершему на кресте, Ему, отрекшемуся ото всякой власти над миром (и мы слышим за всем этим слова о том, как трепещут владыки мира, как сокрушаются жезлом железным), Ему, отложившему все мечи, не посылавшему других на смерть за себя, как земные цари, а Самому пошедшему на смерть за других, Ему, видевшему I смысл человеческого бытия не во власти и ее самоутверждении, а в предельном бытии для других, более того, Кто был самим бытием для других, как свидетельствует крест, — что Ему и только Ему одному Бог сказал: «Ты Сын Мой; Я ныне породил Тебя». В распятом верующие видели смысл того пророчества, смысл избранничества: не привилегию и власть для себя, а служение для других. В нем видели они смысл истории избранного народа, истинный смысл царского бытия, которое всегда стремилось быть представительством, «репрезентацией». «Репрезентировать», то есть предстательствовать за других, — получало теперь иной смысл. О нем, потерпевшем полное поражение, висящим на древе без единого куска земли под ногами, в то время как одежды его разыгрываются по жребию, о нем, оставленном, казалось, самим Богом, о нем, именно о нем гласят слова пророка: «Ты Сын Мой, Я ныне — на этом месте — породил Тебя. Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы Земли во владение Тебе».
Идея Сына Божия, которая путем истолкования распятия и воскресения с помощью 2-го псалма именно таким образом и в такой форме вошла в исповедание Иисуса из Назарета, поистине не имеет ничего общего с эллинистической идеей божественного человека и никак не может быть выведена из нее. Она представляет собой скорее вторую ступень демифо-логизации восточной идеи царя, которая в Ветхом Завете предварительно уже была демифологизирована. Она характеризует Иисуса как истинного наследника Вселенной, как наследника обетования, в котором исполнился смысл богословия Давида. Ясно вместе с тем, что идея царя, которая званием Сына столь определенно переносится на Иисуса, переплетается с идеей раба. Будучи царем, он — раб, а как раб Божий, он — царь. Эта внутренняя связь, столь основоположитеьная для христианской веры, в Ветхом Завете подготовлена по содержанию, а в его греческом переводе — по способу выражения в языке. Слово «пайс», которым именуется раб Божий, может значить также и «дитя». В явлении Христа эта двусмысленность должна была стать указанием на внутреннее тождество этих значений в Иисусе 80.
Вытекающая отсюда обратимость сына и раба, владычества и служения, которая означала совершенно новое истолкование как идеи царя, так и идеи сына, получила едва ли не самую великолепную формулировку в Послании к Филиппийцам (2. 5-11), то есть в тексте, который возник целиком еще на почве палестинского христианства. В качестве основополагающего примера здесь приводятся «чувствования» Иисуса Христа, Который не держится ревниво за Свое богоравное бытие, а в рабском ничтожестве доходит до полного самоуничижения. Стоящее здесь в латинском тексте слово «exinanire» подводит нас к этому переводу. Оно говорит, что Иисус Христос «уничижил» Себя, расточая Свое для-себя-бытие, растворился в чистом движении к... Но, говорится далее в тексте, именно этим-то Он и стал Господом Вселенной, всего космоса, который перед Ним совершает «проскинезу», ритуал и акт подчинения, что единственно только и подобает действительному царю. Добровольно послушествующий оказывается истинно господствующим; достигший последнего ничтожества самоуничижения именно благодаря этому и есть Господин мира. Отправляясь от иного исходного пункта, мы снова пришли к тому, что однажды уже нашли, рассуждая о триедином Боге. Тот, Кто вовсе не держится Своего, кто есть чистое отношение, совпадает в этом с Абсолютным и становится поэтому Господом. Господь, перед которым склоняется Вселенная, есть закланный Агнец, в Котором представлена экзистенция чистого акта, чистого «для». В центре космической литургии, молитвенно преклоненной Вселенной, стоит этот Агнец (Откр 5).
Обратимся однако еще раз к вопросу о том, какое место в античном мире занимало звание сына Божия. А именно, мы должны отметить вот еще что: в эллинистически-римском мире действительно существует этому одна языковая и содержательная параллель. Только это не идея божественного человека, которая попросту не имеет с этим ничего общего. Именование Иисуса Сыном Божиим (выражение нового понимания могущества, царства, избранничества и даже человеческого бытия) имеет в античности единственную реальную параллель в именовании «Сыном Божиим» (Θεού υϊός =Divi /Caesaris/ filius) Цезаря Августа 81. Здесь в самом деле перед нами в точности то слово, которым Новый Завет описывает значение Иисуса из Назарета. В римском культе Цезаря и только в нем снова появляется в поздней античности вместе с восточной идеологией о царе и звание «сына божия», которого прежде не существовало и даже не могло существовать из-за многозначности слова «Бог» 82. Оно появляется опять только там, где снова всплывает восточное представление о царе, в котором коренится исток этого определения. Иначе говоря, звание «сын Божий» принадлежит римскому политическому богословию, что возвращает нас к тому же основному контексту, из которого, как мы видели, выросло и новозаветное «Сын Божий». В самом деле, в обоих случаях это звание рождается из одной почвы, хотя разными путями и независимо друг от друга, в обоих случаях оно указывает на один и тот же источник. И на древнем Востоке, и в императорском мире, настаиваем мы, «сын Божий» составлял часть политического богословия. В Новом Завете это слово, уже переосмысленное израильским богословием избранничества и надежды, было изменено так, что в нем открылось новое измерение мышления. Таким образом, из одного и того же корня выросло совершенно разное. В конфронтации между исповеданием Иисуса как Сына Божия и исповеданием императора как сына Божия, которая должна была вскоре стать неизбежной, практически противостояли друг другу демифо-логизированный миф и миф, оставшийся мифом. Тотальные претензии римского бога-императора не могли, конечно, допустить существования помимо себя такого преобразованного богословия царя и кесаря, какое существовало в исповедании Иисуса как Сына Божия. Поэтому «Martiria» (свидетельство) должно было стать «Martirium», вызовом самообожествлению политической власти 83.