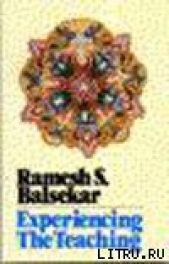Ответы молодым

Ответы молодым читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А если пояснять все – так и молиться не будет времени…Чyкотский писатель Рытхеy рассказывает, что впервые с поэзией Пушкина он познакомился в переводе, который его школьный учитель сделал для своих учеников. Стремясь объяснить все непонятное, он получил такой перевод: "У беpега, очеpтания котоpого похожи на изгиб лyка, стоит зеленое деpево, из котоpого делают копылья для наpт. Hа этом деpеве висит цепь из денежного металла, из того самого, из чего два зyба y нашего диpектоpа школы. И днем, и ночью вокpyг этого деpева ходит животное, похожее на собакy, но помельче и очень ловкое. Это животное yченое, говоpящее..."
Так что вопрос не в языке, а в посещаемости церковно-приходских школ, в том, насколько мы знаем эти библейские события и соотносим их со своей жизнью. Я убежден, что не форму богослужения надо менять, а церковную жизнь за пределами богослужения надо разнообразить. Если в храме или вне его, до службы или после будет возможность для общения людей, для встреч, дискуссий, тогда и вопрос языка богослужения будет просто неинтересен. Не устраивая в храме евроремонта, нужно просто расширить дорогу, ведущую в него.
И нельзя не учитывать здесь еще одно обстоятельство, хотя оно не решающее: у разных текстов разное назначение. Одни существуют для того, чтобы донести до людей некую информацию, другие – чтобы совершить некий сдвиг в душе человека. Мы читаем утренние молитвы не с той же целью, с какой читаем утренние газеты. Поэтому критерий понятности здесь все же не главный. Очень многие религиозные традиции мира сохраняют это странное двуязычие: мусульмане всего мира молятся на арабском языке, независимо от того, какой у них родной; буддисты всего мира молятся на пали или на тибетском языке (а не на калмыцком или бурятском); индуисты молятся на санскрите, хотя он очень не похож на современные языки Индии.
Это не означает, что я считаю церковнославянский язык в его нынешнем виде неприкосновенным. Церковнославянский язык всегда был языком храма, то есть он никогда не был языком улицы. Это изначально искусственный язык, на нем никто никогда друг с другом не разговаривал. Это эсперанто [94]. И в этом его огромное преимущество, связанное с тем, что церковнославянский язык легко поддается реформам. Поскольку это искусственный язык, то при наличии воли его легко реформировать, осовременивать. То, что, собственно, и происходило на протяжении столетий. Каждый переписчик делал это отчасти вольно, отчасти невольно. А вот с появлением типографий этот процесс удалось взять под контроль. И, конечно, современный церковнославянский язык – это не вполне язык Кирилла и Мефодия: между ними немало различий, появившихся в результате постепенной русификации церковнославянского языка. Ранее эти изменения копились стихийно, но затем этот процесс был взят под контроль. Этот путь не закрыт и сегодня. По меньшей мере два раза за последние сто лет это происходило: в начале ХХ столетия вышло заново отредактированное издание круга богослужебных книг (издание вышло под руководством тогдашнего архиепископа, а позднее Патриарха Сергия), а в 70–80-е годы был новый пересмотр, изданный под руководством митрополита Питирима.
О такого рода пересмотрах мечтал святитель Феофан Затворник: "Ушинский пишет [95], что в числе побуждений к отпадению к штунду [96] совратившиеся выставляют между прочим то, что у нас в церкви ничего не поймешь, что читают и поют. И это не по дурному исполнению, а потому, что само читаемое – темно. Он пишет, что поставлен был в тупик, когда ему прочитали какой-то тропарь или стихиру и просили сказать мысль. Ничего не мог сказать: очень темно. Из Питера писали мне две барыни то же об этом: у Пашкова [97] все понятно, а у нас – ничего. Ничего – много; а что много непонятного – справедливо. Предержащей власти следует об этом позаботиться и уяснить богослужебные книги, оставляя, однако, язык славянский. Книги богослужебные по своему назначению должны быть изменяемы. Наши иерархи не скучают от неясности, потому что не слышат, сидя в алтаре. Заставить бы их прочитать службы хоть бы на Богоявленье!!!.. Богослужебные книги надо вновь перевесть, чтоб все было понятно. Архиереи и иереи не все слышат, что читается и поется, сидя в алтаре. Потому не знают, какой мрак в книгах, и это по причине отжившего век перевода... Большая часть из сих песнопений непонятны совсем" [98]. "И церковные молитвословия могут быть изменяемы; но не всяким самочинно, а церковною властию. Неизменны только словеса, Таинства совершающие. Прочие все тропари, стихиры, каноны – текучи суть в Церкви. И власть церковная может их – одна отменить, а другая вводить. В печатных церковных службах перевод уже устарел, много темного и излишнего. Начала чувствоваться потребность обновления" [99].
И все же слухи о том, что "в церкви все непонятно", есть изрядная неправда. Неправда прежде всего – в словечке "всё". Как бы ни были непонятны действия священнослужителя или обороты церковнославянского языка, самая главная церковная молитва – "Господи, помилуй!" – прекрасно понятна, даже несмотря на то, что слово "Господи" стоит в звательном падеже, который отсутствует в русском языке.
Еще одна неправда формулы "в церкви все непонятно" в том, что эта "непонятность" имеет очень даже понятное и благое миссионерское последствие. Люди устали жить в искусственном мире, где все создано их головами и руками (а понастоящему "понятно" только то, что технологично, причем эта технология знакома "понимающему"). Человек ищет опоры в том, что не является артефактом, что не имеет слишком уж броской и наглой этикетки "made in современность". Очевидная инаковость строя церковной жизни, мысли, инаковость даже языка и календаря, имен и этикета привлекает многих людей, которые не желают превращаться в "читателей газет – глотателей пустот" (выражение М. Цветаевой). Как раз это и есть признак истинной Церкви – непонятность, несводимость к нашим объяснительным штампам и привычкам. Это признак нерукотворного, признак чуда. Чудо не может вместить себя в символы, до конца понятные и вполне адекватно переведенные на секулярный язык. И поэтому язык Церкви (речь идет не только о языке богослужения, но и о языке церковной мысли и веры) никогда не может быть до конца "родным", своим для людей, воспитанных во внецерковном, а сегодня, пожалуй, и в антицерковном мире. Может, в Церковь, где все понятно, легче прийти. Но не стоит забывать, что из Церкви, где все понятно, также значительно легче уйти.
Еще одна неправда уверения, будто "все непонятно", в предположении, что Церковь только для того и существует, чтобы с максимальным комфортом встретить автора этого "крика души", подвести его к церковному порогу и максимально "тактично", "понятно" и "культурно" расширить его кругозор. Но ведь Церковь существует не только ради осуществления миссионерских проектов. Люди сегодня так часто забывают, что формы православного богослужения были созданы не для обращения вчерашних атеистов, а для помощи уже верующим людям в их духовном труде. Привести человека к порогу христианства не так уж трудно. Но надо жить дальше. И Церкви есть что сказать не только своим неофитам. Если же вся речь Церкви понятна начинающему – значит, в дальнейшем нет пути для возрастания. Если человеку, еще далекому от христианства, в храме "все понятно" – значит, в этом храме пусто. Если бы пятиклассник взял учебник пятого курса и ему там вдруг все стало бы понятно – это означало бы, что дистанция в десять лет учебы между пятым классом и пятым курсом оказалась излишней, пустой. Пятикурснику не сообщается ничего такого, что не мог бы быстренько понять и усвоить ребенок. Церковная же речь предполагает приобретение человеком такого опыта, которого у него не было прежде. В этом смысле она эзотерична. Профан же требует, чтобы ему "сделали понятно" еще до того, как он прошел путь инициации. У Церкви нет никаких секретов. Просто у нее есть такой опыт, который рождается и поддерживается в душах церковных людей. Им питается обряд, и ради его сохранения обряд и сложился.