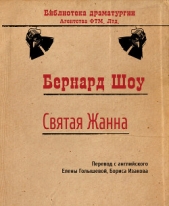Эссе и размышления о Человеке и его Учении

Эссе и размышления о Человеке и его Учении читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, подобно всем нам, имевшим мало представления о своей собственной сущности и характере, она полагала, что все произносимое не относится к ней самой. Как и все мы, она не только не знала себя, но и не знала того, что ей нужно знать о себе. Я имею все основания полагать, что только через много лет она осознала сказанные ей слова.
Много раз я слышал от учеников Гурджиева слова, которые часто повторял и самому себе: "Только теперь я начинаю понимать то, что говорилось мне много лет тому назад". И то, что когда-то произвело на меня весьма скромное впечатление и было похоронено в глубинах моего подсознания, гораздо позже вышло на поверхность, чтобы в конце концов оказаться понятым.
Я знал одного последователя Гурджиева, ныне уже давно умершего, который заявлял мне со всей серьезностью, что Гурджиев никогда не говорил ему ничего такого, что можно было бы отнести к учению. И добавлял: "Единственные слова, с которыми он ко мне однажды обратился, были: " Эх, мистер, как часто вы выбрасываете пятерку вместо единицы". "И что он имел в виду? И это учение?" - спрашивал он.
Что я мог ответить на это? Это касается всех нас. Мы многое видим в других, но мало что видим в себе. Я понял, что главной чертой этого замечательного образованного человека была склонность к начетничеству, словесной мастурбации. За его внешней показушной школярской точностью, умными словами и неумолимой потребностью в достоверных фактах проглядывал сам себя загнавший в угол мечтатель. Он всегда протестовал против того, что его подлинные интересы лежат в области исследования человеческого разума. Он был востоковедом, который так и не решился ни на одно серьезное исследование Востока. Возможно, он боялся расстаться со своими иллюзиями.
Он стойко доказывал свою преданность привычкам -- виски по вечерам, завтрак в полдень в своем клубе - ибо что еще делать в этом бессмысленном мире? В сороковые года он получил докторскую степень в области физики, несмотря на свое нескрываемое презрение ко всему академическому. Он провел остаток своих дней в псевдоэлегантном британском окружении ( хотя с великим презрением отзывался о всем британском и к британцам относился как к Богом проклятому народу) на средиземноморском острове, где жизнь казалась ему более или менее сносной. Когда его претенциозность поутихла, он превратился в умного и доброго друга. И тем не менее он не переставал скрываться за маской горячей принципиальности, которая во всем ему помогала. Во всем кроме самого себя -- для себя он так и остался неразгаданной тайной.
** *
Я вспоминаю Гурджиева, сидящим во главе стола на маленьком диванчике, поджав под себя одну ногу, в тесной гостиной его квартиры в отеле. Это было за год до его смерти. Он был уже пожилым человеком, как всегда доброжелательным и притягательным, но уже не таким свирепым и вызывающе экстравагантным учителем танцев, как раньше. Длинные седые усы с закрученными концами, пристальный взгляд глубоких темных глаз, которые смотрят глубоко внутрь каждого сидящего за столом человека - все эти детали навсегда останутся в моей памяти.
Его голова всегда была чисто выбрита. Порой на ней появлялась красная феска. Свободная, наподобие туники, нижняя рубаха была наглухо застегнута. Большой живот, маленькие ступни в мягких тапочках. По праздникам он одевал один из своих бежевых или оранжевых твидовых двубортных костюмов.
Каждый ланч с часу до трех днем и поздний ужин в десять или одинадцать после чтений или занятий движением были для Гурджиева настоящим событием, своего рода ритуалом, которому придавалось огромное значение. Это была лично им изобретенная церемония -- способ осуществления своей миссии среди людей.
Гурджиев был мастером приготовления армянских национальных блюд и подлинным самодержцем на своей кухне. Чем меньше была кухня, тем больше, казалось, он упивался процессом приготовления и тем более изобретателен был в выборе блюд. Готовить приходилось на большое количество гостей -- сто или сто пятьдесят человек. Хотя он никогда не жил на широкую ногу, но всегда был предельно сосредоточен на каждой мельчайшей детали.
В апартаментах отеля Веллингтон не было кухни и готовить было официально запрещено. Пища готовилась в ванной. Разделочная доска на ванной трубе дополняла импровизированную плиту и гриль. Тарелки мылись в раковине, пройдя первоначальную очистку в туалетном бачке.
Поварской состав - тщательно отобранные последователи высшего ранга после каждодневного похода с Гурджиевым на вест-сайдский рынок работал с раннего утра до поздней ночи.
Количество мест за столом было строго ограничено; гости рассаживались тесно друг к другу, локтем к локтю. Кому не хватало места, становились вдоль стен с тарелками в руках, оставшиеся наполняли просторную гостиную. Там люди рассаживались где придется -- в креслах, на подоконниках, на полу, образуя то, что Гурджиев любил
называть "пикником". Справа и слева от него за столом располагались особые места. Слева садился директор застолья, который следил за наполнением бокалов и произнесением тостов для всех присутствующих идиотов. Произнесение тостов начиналось с самого начала застолья, когда Гурджиев лично давал распоряжение директору: "Говорите, мистер Директор, говорите". Эти слова повторялись много раз на протяжении всего застолья, и каждый из присутствующих был обязан осушить бокал арманьяка или водки с каждым тостом. Женщинам было разрешено выпивать один бокал за три тоста. Те же, кто не пил вовсе или, наоборот, был замечен в чрезмерном пристрастии к алкоголю, угощались в случае личного соизволения Гурджиева.
Два места справа от Гурджиева назывались "канализационная труба" и "мусорный ящик". Обязанностью сидящих здесь людей было съедать помимо своей собственной порции все, что не доел сам Гурджиев. И первый, после честного выполнения поставленной перед ним задачи, когда в него уже ничего не могло поместиться, передавал остатки другому.
Гурджиев испытывал особое пристрастие к врачам и поэтому я часто оказывался в роли "канализационной трубы". Жареная телячья голова с мозгами была блюдом, которое я часто делил с рядом сидящим "мусорным ящиком".
Несмотря на то, что Гурджиев всегда был окружен большим количеством блюд -- специально приготовленным авокадо, сладким луком, пучками укропа и петрушки, базиликом, баклажанами , виноградными листьями ,сметаной и могучими холмами томатного соуса - сам он ел очень мало. Среди пищи, которую Гурджиев приготавливал сам , всегда были специальные маленькие блюда, предназначенные для определенных особ: для "Мамы ", для "Блондинки", для "Доктрины", для "Мисс Шапо", для "Верблюда". И при передаче каждого блюда происходил обмен взглядом или парой
фраз, которые часто не замечались другими, но всегда были особо направлены на того, кому предназначалось блюдо.
Гурджиев всегда умудрялся дотронуться до человека каким-то особым, глубоким и одному ему ведомым образом, будучи при этом беспристрастно участливым и заинтересованным. Казалось, он с глубоким уважением относился к стремлениям
и чаяниям каждого, несмотря на то, что глубоко осознавал ничтожество каждого человека по сравнению с вечностью.
Вокруг стола всегда происходила суматоха с передачей с "кухни" по цепочке разнообразных блюд -- корзин с хлебом, бутылок разной формы и размеров, пучков свежей травы и фруктов. В качестве первого блюда всегда подавали специальный салат, приготовленный либо самим Гурджиевым, либо особо продвинутым помощником
главного повара. Он состоял из помидоров, огурцов, лука, укропа, петрушки, индийских
специй, томатного сока, горчицы и не знаю чего еще, но в результате получалось блюдо
невероятной остроты и манящей свежести. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я испытываю такой интенсивный поток ассоциаций, как будто сам в настоящий момент являюсь участником этой церемонии.
Как только все мы рассаживались по своим местам, самый умный быстро погружал свою ложку в салат, и вместе с кусочком хлеба это было прекрасным фундаментом для рюмочки алкоголя, который быстро разливался, вслед за словами "Говорите, говорите, мистер Директор". Зимой 1948 года директором часто оказывался изможденный, безупречно вежливый англичанин, на протяжении многих лет бывшего близким последователем Успенских. Когда в 1947 году Успенский умер, он, по совету мадам Успенской, отправился к Гурджиеву в Париж, а затем последовал за ним в Нью-Йорк.